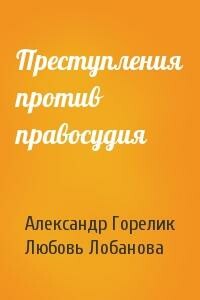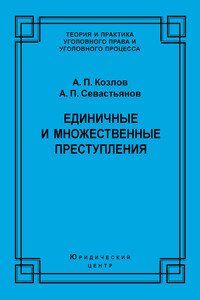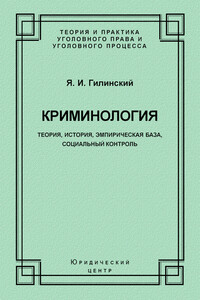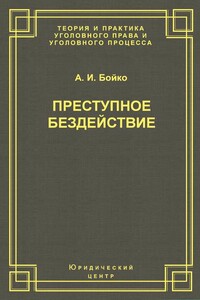Частные начала в уголовном праве - страница 15
Недействительным согласие потерпевшего будет признано, если оно:
1) получено насильственным путем;
2) дано в силу очевидного заблуждения;
3) получено с помощью обмана;
4) выражено лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
5) выражено лицом, неспособным осознать значение предполагаемого деяния и совершить волеизъявление.
Интерес представляет также ст. 24 «Согласие потерпевшего» Уголовного кодекса Республики Корея следующего содержания: «Деяние, которое нарушает законные интересы, осуществляемое с согласия одного из тех, кто уполномочен рассматривать такие интересы, не подлежит наказанию, кроме специальных случаев, предусмотренных законом»[79]. И хотя согласие потерпевшего в данном случае не названо обстоятельством, исключающим преступность деяния, оно закреплено в разделе 1 «Совершение преступления и назначение наказания» наравне с такими обстоятельствами, как самооборона, необходимость и самосохранение.
Анализ уголовного законодательства Кореи позволяет заключить, что правомерность нарушения интересов лица с его согласия распространяется на все случаи, кроме убийства. В ст. 252 предусмотрена уголовная ответственность за убийство по просьбе или по сговору с потерпевшим (наказание в виде каторжных работ на срок от 1 года до 10 лет), а в ст. 253 «Убийство по просьбе потерпевшего с использованием мошеннических средств или с применением угрозы» предусмотрено наказание, равное санкции за простое убийство (каторжные работы пожизненно или на срок не менее 5 лет). Таким образом, законодатель устанавливает условия действительности согласия потерпевшего, которое не должно быть получено насильственным либо обманным путем.
Согласно § 235 Общегражданского уголовного кодекса Норвегии наказание, описанное в § 228 и § 229, не применяется, если действие предпринимается в отношении кого-либо с его согласия. При этом в § 228 предусматривается ответственность за совершение насилия, наносящего физический ущерб или способствующего этому, а в § 229 – за нанесение физических повреждений, ущерба здоровью или доведение лица до беспомощного, бессознательного или аналогичного состояния.
Поскольку в уголовном законодательстве Норвегии вред здоровью и организму подразделяется на физические повреждения и значительные физические повреждения, представляется, что максимальный предел допустимого вреда потерпевшему с его согласия не должен выходить за рамки собственно физических повреждений, в то время как причинение значительных физических повреждений и лишение человека жизни с его согласия должно влечь уголовную ответственность. Но и в этом случае законодатель оговаривает следующие условия смягчения наказания: «Если лицо было убито, ему нанесены значительные телесные повреждения или причинен значительный ущерб здоровью с его согласия, или если лицо из сострадания лишает жизни безнадежно больное лицо, или причастно к этому, наказание может быть уменьшено ниже определенного предела или носить более мягкий характер».
Несмотря на относительную ясность формулировок § 235 УК Норвегии, последующая норма § 236 ставит под сомнение существование института «согласия потерпевшего» ввиду отсутствия самого потерпевшего. Согласно § 236 «лицо, способствующее тому, чтобы кто-либо лишал себя жизни, причинял себе значительные телесные повреждения или ущерб здоровью, подлежит наказанию за пособничество убийству или причинение тяжких телесных повреждений». В этой связи закономерно напрашивается вывод: если помощь третьего лица в самоубийстве представляет собой соучастие в форме пособничества убийству, то просьба лица о лишении себя жизни представляет собой соучастие в форме подстрекательства к убийству.
Научного осмысления требуют уголовно-правовые дефиниции государств постсоветского пространства. Систематизация положений уголовного законодательства стран СНГ позволяет выявить следующую закономерность в законодательном закреплении согласия потерпевшего в числе обстоятельств, исключающих преступность деяния: практически во всех из проанализированных уголовных кодексов волеизъявление жертвы не считается достаточным основанием для признания совершенного деяния правомерным.