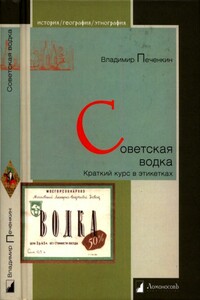Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии. Невеста, жена, любовница - страница 58
Единственное качество «злых жен», которое московиты XVII века продолжали глубоко осуждать, — это их вероломство, склонность к обманам и изменам, причем именно изменам супружеским. Настойчивое приписывание прежде всего женщинам склонности к непостоянству и легкомыслию заставляет видеть в текстах о «злых женах» XIV–XVII веков мужское себялюбие. Пожалуй, благодаря ему «женка некая» (жена Бажена), обманывавшая мужа со своим «полубовником» Саввой в «Повести о Савве Грудцыне», жена купца Григория, «впадшая во блуд с неким жидовином», а также «бесноватая» Соломония из одноименной повести оказались наделены авторами-мужчинами безусловными отрицательными характеристиками. Но появилось и отличие от ранних текстов: «уловление» женой «юноши к скверному смешению блуда», измена «женки» Григория, сожительство Соломонии со «зверем мохнатым» изображались уже не как собственные побуждения беспутных от природы женщин, а как вмешательство в их судьбы «диавола-супостата».[402]
И одновременно в качестве образцов для подражания стали появляться в посадской литературе описания таких женских качеств, как находчивость, смекалка, «ухищрения» (ранее характеризовавшие лишь «хытрости» «злых жен»), проявленные в умении устоять под напором поклонников и сохранить верность истинно «доброй жены».[403] Лучший пример тому — «купцовая женка» Татьяна Сутулова («Повесть о Карпе Сутулове»). Практичная, смелая, деятельная, активно охраняющая свой семейный очаг и ничуть не похожая на своих предшественниц, «добрых жен» из Прологов и псевдозлатоустовых «слов», эта героиня русской жизни XVII столетия предстала перед современниками полной противоположностью уныло-назидательной в своей добродетельности Февронии. Весь сюжет повести закручен вокруг добивающихся расположения Татьяны поклонников, каждый из которых мечтал с нею «лещи» («Ляг ты со мною на ночь…»). Автор впервые в русской литературе изображал женщину в такой ситуации не возмущающейся настойчивостью похотливых мужчин, не одержимой праведным гневом, а посмеивающейся над ними и даже извлекающей выгоду из происходящего. «Подивившись» хитрости супруги, муж «велми похвалил» ее не только за «соромяжливость», но и за умение сделать свой «целомудренный разум» источником весьма значительного денежного «примысла».[404]
С сочувствием проделкам наглого Фрола и Аннушки обрисовал автор «Повести о Фроле Скобееве» обман ими родителей. Причина в том, что речь в повести шла не об обмане законного мужа, а «всего лишь» о притворстве перед лицом прежних властителей судьбы девушки.[405] Так, неожиданно возникшее в посадской литературе XVII века сочувствие женщине, нарушившей житейскую мораль — презревшей теремное заточение или власть отца над своей судьбой, — парадоксальным образом содействовало укреплению идеала супружеской верности. Этот идеал, понимаемый прежде всего как верность жены мужу и издавна пропагандируемый церковной литературой, да и народной мудростью, приобрел в XVII веке новые краски.
Верность супруги стала пониматься как нравственный постулат, как предпосылка «согласного жительства во владелстве и в дому», неверность — как «погыбель и тщета» любого, самого крепкого и богатого домохозяйства. Причем отношения в семье прямо проецировались на державу: «несогласие» и «несогласное жителство» в государстве уподоблялись неладам в семье, где жена неверна мужу, и обещали стране гибель.[406]
Нравственный идеал верности супругов «до гроба», пропагандировавшийся официальной моралью, — идеал верности, основанной не на бесстрастности и холодной рассудочности (как у Петра и Февронии), а на искреннем, живом, отнюдь не религиозном чувстве, — постепенно перерастал в народный, находя отражение не только в переводной литературе, но и в посадских повестях, в которых стала акцентироваться незаменимость избранника для любящего сердца женщины: «Твори, господине, еже хощети! Аз тебе передаю и дом весь… Аз бо с тобою вечно хощу жити!»,