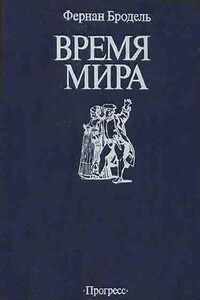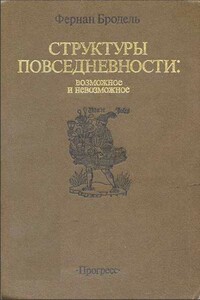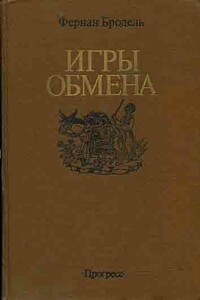Крупная земельная собственность также составляет здесь правило. Сеньориальный режим, который часто служит ее фасадом, нашел здесь естественные условия для выживания. В Сицилии, Неаполе, Андалусии сеньориальные майораты передавались из рук в руки без изменений вплоть до наших дней. Равным образом на обширных восточных равнинах Балкан, в Болгарии, Румелии и Фракии, в районах, производящих зерно и рис, глубоко укоренился турецкий режим с его крупными хозяйствами и крепостными деревнями, в то время как на гористом Западе он потерпел почти полную неудачу>262.
Есть и много исключений, связанных с местными особенностями, например старинная римская Кампания или современная крестьянская демократия Валенсии, а также Ампурдана и Руссильона. «Эти равнины, — пишет Максимилиан Сорр по поводу двух последних>263, — всегда были страной мелких и средних собственников». Всегда ли? В современную эпоху — согласимся с автором. В самом деле, доподлинно нам неизвестно, что происходило на этих низменностях до аграрных смут XIV века, особенно до начала масштабных и массовых работ по ирригации, предпринятых, в частности, рыцарями-храмовниками из Ма Де в бассейнах руссильонских рек Реара и Кантараны. Как бы то ни было, налицо и пример, и явные отклонения от правил. И это не единственный пример и не единственное отклонение. В Провансе «сельскохозяйственный пролетариат — редкость, за исключением Арльской равнины, поделенной между крупными землевладельцами»>264. В Каталонии период процветания зажиточного крестьянства начинается не позднее 1486 года>265. Может быть, чтобы разнообразить чересчур общие объяснения, следовало бы подробнее остановиться на таких внешне простых понятиях, как мелкий и крупный собственник (крупный или влиятельный?); установить различия между типами равнин в зависимости от их большей или меньшей протяженности, а также в зависимости от наличия у них внутренних границ; наконец, и в особенности, стоило бы проверить наличие и установить логические причины процессов последовательных изменений режимов собственности и аграрной эксплуатации, дробления наделов, укрупнения наделов. Затем, поскольку ничто не стоит на месте, — нового их измельчания. В одних случаях прирост населения, в других — распространение новых культур, внедрение новых орудий или неизменность прежних, в третьих — растущее влияние соседних городов без конца преобразуют географическое и социальное устройство низменностей, в то время как в других регионах тирания хлебных полей и сохи (если вернуться к идеям Гастона Рупнеля), применение рабочего скота поддерживают старый порядок и силу богачей. Услугу подобного рода исследования уже оказывает нам новаторская робота Эммануэля Леруа Ладюри>266 о лангедокских крестьянах в период с XV по XVIII век. До ее появления было трудно представить себе, до какой степени этот порядок землепользования являлся порождением социальной, демографической и экономической конъюнктуры и до какой степени подвижным, подверженным непрерывным изменениям, «без конца ставившимся под вопрос», он был вследствие этого. Проблема заключается в том, чтобы узнать, пригодна ли эта столетняя хронология последовательных изменений в аграрных порядках Лангедока для других средиземноморских областей: для каких-то из них с запозданием, для других — с опережением, а для третьих, наиболее многочисленных, — с совпадением по времени. Пока что мы далеки от ответа на этот вопрос.
Краткосрочные изменения на равнинах: венецианская Терра Ферма
Мы можем но крайней мере попытаться проследить за этими краткосрочными переменами на другом примере — на примере Венеции.
4. Вспомогательные каналы помешали исчезновению не менее половины венецианских лагун
План ориентирован и направлении с севера на запад. Прорытые каналы защитили Венецианскую низменность и окружающие город лагуны. Однако северная часть залива заполнилась многочисленными отложениями, приносимыми небольшими реками — Пьяве, Силе, часто превращающимися в стремительные потоки. Вся эта область покрыта стоячими водами. На юге, напротив, беспрерывно возобновлявшиеся работы упорядочили течение Бренты, и лагуна от Кьоджи до Венеции «живет» и обновляется под действием приливов и отливов. По книге Arturo Uccelli, Storia della tecnica dal Medio Evo ai noslri giorni, 1945, p. 338.