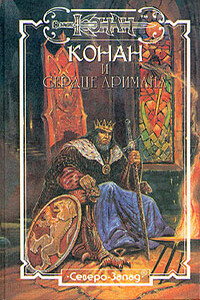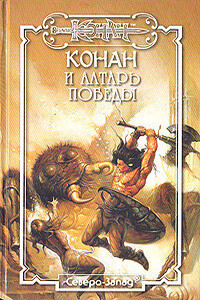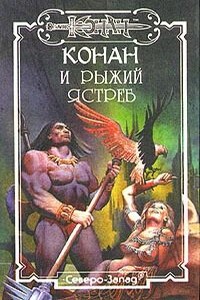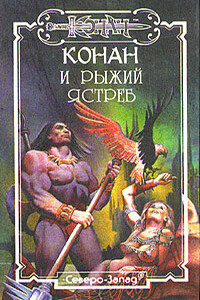— Клянусь Кромом! — воскликнул киммериец, неслышно вынырнувший из трюма и выросший за спиной Шумри. — Я сошел с ума, или мне просто послышалось? Пресветлый Митра принародно велел меня помиловать? А где же я был при этом? Хотелось бы взглянуть в лицо славного божества!..
Шумри повернулся к нему, смеясь. Горги и Мейч, также выползшие из трюма, грязные и полуголые, оцепенело смотрели то на глашатая, важно сворачивающего свиток с немыслимым указом короля (если точней, королевы!), то на обнявшихся и хохотавших друзей.
Затем они принялись отплясывать, все четверо, стуча босыми ногами, оскользаясь на мокрой палубе, упоенно перекрывая шум дождя разудалой пиратской песней… Захмелевшие демоны, да и только!
* * *
Конан с трудом заставил себя взяться за бронзовое кольцо и три раза ударить им в дверь. Такую знакомую дверь дома, где он провел не один день, чей хозяин был одним из самых близких и верных его приятелей… Впрочем, вряд ли герцог Гарриго остался его приятелем: ведь он даже не был на тюремной площади два дня назад, хотя не мог не слышать о предстоящей казни. Как и большая часть прежних его друзей… Почти все отвернулись с презрением от чернокнижника, загубившего своей неприкрытой магией достопочтенного барона.
Но он должен встретиться с герцогом, как бы ни было тягостно беседовать с ним. Быть может, ему удастся хоть немного поддержать его в страшном несчастье. (О, Кром! Как будто кто-то может в этой ситуации помочь или поддержать?..) К тому же еще одно дело, не слишком приятное, но очень конкретное и неотложное, требует немедленной беседы с ним.
Лакей, открывший дверь и впустивший киммерийца, которого хорошо знал в лицо, был весь в черном. Склонив почтительно голову, он тихо произнес, что герцог находится в большом горе и никого не принимает. Почтенный капитан Конан может оставить ему свое сообщение на словах либо записать на специально приготовленном куске пергамента.
Конан отстранил рукой протягиваемый ему пергамент, а вместе с ним и лакея. Не обращая внимания на протестующие и испуганные возгласы, он двинулся вглубь дома, хорошо ориентируясь в знакомой обстановке.
Дом был полон скорбной тишины. Попадавшиеся навстречу слуги в черных одеждах больше напоминали бесплотные молчаливые тени, чем людей. Зеркала были занавешаны темным бархатом. Несмотря на дневное время, всюду горели свечи, а окна скрывали тяжелые шторы.
Распахнув дверь в гостиную, Конан приостановился у порога. Герцог Гарриго в полном и торжественном одиночестве стоял у низкого стола красного дерева, на котором лежала его мертвая дочь. Зингелла была в белоснежном длинном платье. Ее густые черные волосы переплетались со стеблями лилии, издававшими нежный аромат. Горящие высокие свечи окружали голову, создавая некое подобие светящейся короны… Не отрываясь, герцог смотрел в недвижное, белое, как алебастр, и удивительно прекрасное лицо. Никогда при жизни девушка не была такой красивой. Жесткие складки у губ исчезли, сами губы чуть приоткрылись и не были больше ни надменными, ни капризными. Лицо выражало покой и легкое, еле заметное удивление. Казалось, перед своей гибелью девушка поняла что-то очень важное, что усмирило ее буйную, мятущуюся душу. Поняла, но не до конца, что-то еще осталось непроявленным, тайным, маняшим…
— А, это ты, Конан, — произнес герцог, когда киммериец подошел к нему и остановился возле.
Он не обернулся на его шаги, даже не повернул головы в его сторону, и непонятно было, каким образом он узнал приятеля.
— Да, это я, — отозвался Конан. — Я пришел, чтобы…
— Не надо, — перебил его герцог. — Не надо слов. Ты пришел, чтобы постоять здесь рядом со мной и посмотреть на нее. Спасибо.
Взглянув на Гарриго, Конан с удивлением отметил, что герцог выглядит намного лучше, чем тогда, когда он видел его в последний раз. Он уже не казался ни больным, ни издерганным, ни постаревшим. Лишь сильная бледность да странная неподвижность черт лица отличали его от того, прежнего Гарриго, которого киммериец знал всегда.
— Я рад, что ты жив, — сказал герцог. — Что ты в очередной раз вырвался из когтей смерти. Я слышал, что тебя спасла гроза.