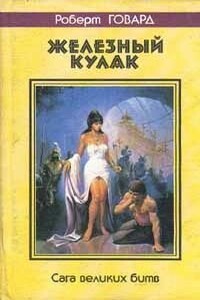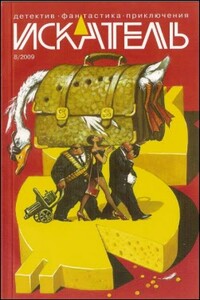Митцинский выставился в дверь по пояс, завис над ступенями. Из-за холма, распускаясь веером, выметывалась конная цепь. Всадники — в черных намордниках, над винтовками вспухали белесые султаны дымков. Лава растекалась вдоль поезда.
Митцинский усмехнулся, понял: налет. К двери скакали двое с обрезами. Из вагона донесся свирепый рев — ломился в тамбур к хозяину Ахмедхан, расшвыривая людское месиво. Двое — в матерчатых черных повязках, высекая из камней искры, вздыбили коней у тамбура. В полуметре от Митцинского всхрапнула лошадиная морда, роняя пену, кусала мундштук.
Ахмедхан пробился к двери, налег плечом, высунул голову:
— Осман, ты здесь?
Митцинский — пятерней в лицо, толкнул обратно:
— Не пускай сюда никого!
Всадник жиганул нагайкой плясавшего жеребца, выпростал ногу из стремени, готовясь прыгнуть в тамбур. Митцинский, пропуская, втиснулся спиной в кочегарку, выудил кольт из кармана.
Сердце било толчками где-то у самого горла.
Завешанный намордником прыгнул, пролетел мимо кочегарки, обрез — дулом вперед. Пахнуло едким потом, чесночным духом.
Митцинский дернул на себя дверь, захлопнул так, что — гул по тамбуру, ткнул кольтом в согнутую спину:
— Стоять! — Скосил глаза на дверь.
За пыльным стеклом вертелся в седле второй, силясь разглядеть, что в тамбуре. Налетчик медленно тянул руки. Зад тощий, штаны лоснятся, из-под них — сыромятные чувяки. Митцинский пригляделся и ахнул про себя: верх строчен красной шерстяной нитью, нос приподнят, из него — щеголеватый махорчик. Башмачник Абдурахман! Он один на весь Хистир-Юрт такие башмаки делал! Для сына своего Хамзата и для Османчика — сына шейха особо старался — кроил из буйволиной нестираемой кожи. Только приметы фамильного ремесла одни и те же — строчка поверху красной шерстяной нитью да кожаный махорчик из чувячного носа.
— Повернись! — сказал Митцинский.
Налетчик медленно разворачивался, рука впилась в винтовочное цевье мертвой хваткой.
— Сними намордник! — приказал Митцинский, еще раз стрельнув глазами на башмаки — Абдурахманова работа!
Бандит заскорузлым, в трещинах пальцем спускал с носа повязку, правая поднятая рука с обрезом подрагивала.
— Хамзат! — крикнул Митцинский в знакомое лицо, в белые от бешенства глаза.
Обрез выскользнул из рук Хамзата, приклад бухнул о пол. Выстрел вбил грохот в самое сердце, пуля пробила дыру в потолке, осыпала мусором.
Бандит ошарашенно таращился на русского в пенсне и белом картузике. Взревело где-то рядом. Вагонная дверь распахнулась, отбросила Хамзата к стене. В тамбур медведем вломился Ахмедхан — лицо сизое, в глазах мерцала свирепость: стреляли в хозяина?!
Митцинский трясся в беззвучном смехе. Оборвал смех, сказал Ахмедхану:
— Спрячься, не мешай! — И сунул кольт в карман.
Ахмедхан втиснулся в вагон. Митцинский поманил Хамзата пальцем, наслаждаясь, лепил языком чеченские слова:
— Надо узнавать односельчан, Хамзат.
— Чей ты?
— Подумай... Мулла Магомед жив?
— Что ему сделается... Кто ты?
— Могилу шейха Митцинского не осквернили Советы?
— Ос-ма-а-ан? — заикаясь, выдавил в великом изумлении Хамзат. — Осто-о-оперла... Зачем ты нацепил эту стекляшку, почему?..
— Потом! — оборвал Митцинский. — Обо мне — никому. Завтра приходи, жду у себя дома. А теперь занимайся своим делом. — И подтолкнул Хамзата в плечо.
Хамзат понятливо усмехнулся. Распахнул дверь тамбура, выкатив глаза, крикнул напарнику:
— Чего ждешь? Забыл, зачем взялся за винтовку? Напарник Абу вяло, нехотя прыгнул в тамбур, спросил уже в самом вагоне вполголоса:
— Кто это?
— Не твое дело! — ощерился Хамзат. — Стань в проходе и держи всех под прицелом!
Ударил дверь ногой, шагнул в вагон и крикнул пронзительно:
— Деньга давай, золото давай!
Пошел по вагону, напряженный, хищный, палец — на спуске обреза. Абу, расставив ноги, целил обрезом в проход и тоскливо думал: «Будь ты проклят, хорек... кукуруза второй день не полита».
Колченогий, ушастый, Султан ни на султана, ни на падишаха не был похож. Он был похож на того, кем был, — батраком у муллы Магомеда. Султан был беден и хотел разбогатеть, сколько себя помнил. Он сеял кукурузу и сажал картофель в чужих огородах, ухаживал за чужим скотом. Но больше всего он любил сажать орех. Корчевал деревья в лесу на солнечных склонах горы и засаживал их орешником — для всех, кто младше его и придет на землю позже, ибо по-настоящему, в полную силу, орех начнет плодоносить, когда самого Султана уже не будет на этой земле. Но это занятие не приносило богатства.