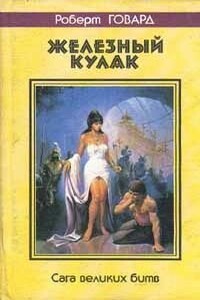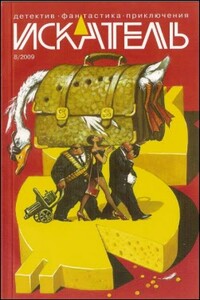Деньгами на дорогу грузин снабдил щедро, слишком щедро. Это сулило исполнение обещания и за кордоном.
...Все еще таясь, пригибаясь, Драч шагал по турецкой земле. Он ежеминутно ждал окрика, слепящего луча в лицо. Но все было тихо. Тогда он выпрямился и пошел открыто — он был в Турции.
Бесплотными тенями по бокам возникли двое, и на вахмистра обрушилась тяжелая чернота ночи.
Он очнулся от узкого луча фонарика, бьющего в глаза. Зажмурился, вспомнил все, попытался объясниться. Ему не ответили, крепко прижали к земле, продолжая методично обыскивать. Он понял, что может случиться непоправимое, о чем предупреждал грузин. Вахмистр не мог знать, что скрытыми каналами, через подставных лиц турецким пограничникам было сообщено, что границу перейдет резидент красных.
...Когда цепкие руки обыскивающего наткнулись на зашитый в подкладку пакет, Драч рванулся, стряхнул с себя двоих и, петляя зигзагами, побежал в темноту.
Его поймали в перекрестье двух лучей. Сухо треснули несколько выстрелов. Когда к вахмистру подбежали пограничники, он лежал на боку, сучил перебитой ногой и заталкивал в рот половину разорванного пакета.
Борясь с угасающим сознанием (вторая пуля пробила грудь), он все тянулся к письму Гваридзе, к липким от слюны и крови клочкам тезисов «Ислам и Россия», которые соединял и разглаживал на колене турецкий офицер.
Сотня вымоталась. Регулярные части Красной Армии гнали ее второй день, отжимая от гор. Бока у коней запали — не успевали кормиться, промежутки между боями сокращались. Из четырех сотен мюридов, стянувшихся к Митцинскому, осталась одна, остальные рассеяны, бежали, полегли в боях.
В сыром, промозглом тумане обозначилась рваная цепь баррикады: земляной вал, окоп, мешки с камнями. Митцинский поднял руку. Сотня остановилась. Слева смутно угадывалась гора, справа шумела невидимая в тумане река. Митцинский напряженно вгляделся. На земляной вал поднялась одинокая фигура, утвердилась, крикнула:
— Осман! Село решило сражаться с тобой! В аул не пустим.
Митцинский грузно обмяк в седле, спросил:
— Старшие есть?
На вал поднялись трое стариков. Один из них сказал:
— Объезжай аул, имам. Мы не хотим крови, не хотим ссориться с Советской властью из-за тебя. Она дала нам автономию.
Митцинский выпрямился в седле, закричал, содрогаясь в бессильной ярости:
— Глупцы! Данная вам автономия — это кость собаке, чтобы не лаяла! Это обнаженный клинок кинжала, за который вы держитесь! А рукоятка — в руках неверных! Вы не получите истинной независимости, пока не завладеете всем кинжалом!
— Уже слышали! — одинокий, насмешливый голос из-за вала.
— Священная война большевикам объявлена! И долг каждого горца — присоединиться к ней! — с отвращением крикнул Митцинский — постыдным бессилием отдавали слова.
После долгого молчания снова заговорил старик:
— Мы привыкли лить пот, а не кровь на своих полях, имам. И Советская власть говорит нам: делайте то, что по душе. Не заставляй нас делать то, к чему не лежит сердце. Нам нечего делить с Советами.
Митцинский удержал сотню от приступа — мюриды рвались в бой. Он знал, что им еще пригодятся силы.
* * *
Ранним утром в сильно поредевшем лагере Митцинского на берегу реки запоздало раздался крик часового, грохнул выстрел.
В короткой страшной резне с окружившими лагерь частями ЧОНа выжили и прорвались сквозь кольцо два десятка мюридов. Среди них был Митцинский.
* * *
Ташу Алиева стукнула в дверь камеры. Ударила сильно, озлобленно. Подошел охранник.
— Я прошу сюда начальника!
Охранник вызвал начальника караульной стражи. Тот нагнулся к глазку:
— Я вас слушаю.
Алиева вжала лицо в прутья решетки, глаза белые, невидящие:
— Прошу вас довести до сведения властей, что я беременная. Я... я могу... стать матерью... если меня отсюда...
Заплакала тяжело, навзрыд.
В кабинете начальника ЧК сидели начальники отделов, Рутова, Аврамов и Ушаховы — Абу и Шамиль. Быков подводил итоги. Он был странен. Рутова с удивлением присматривалась к начальству. А Быков, легко и упруго ступая по ковру, говорил о главном — о том, что долгие полгода являлось основной его заботой. И теперь вдруг, отрешившись от нее, он сам с затаенным удивлением вслушивался в то, что происходило в нем. Будто блаженно и тихо потрескивая, распрямлялись его кости и мускулы, доселе придавленные незримой и грозной тяжестью, не отпускавшей даже ночью. А теперь она исчезла, растворилась бесследно в неярком, спокойном свете декабрьского дня, и стало легко и упруго ходить, смотреть людям в глаза.