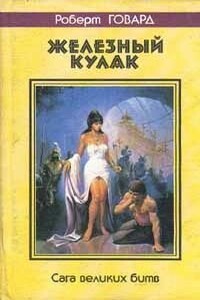Когда, выкупав и уложив парнишку, донельзя довольного и сытого, на кушетку в кухне, вышла Рутова в комнату к Аврамову, он, посапывая, увлеченно мастерил за широким столом маленького человечка из воска свечи, спичек и наперстка.
Рутова присела, затаилась напротив, раскрасневшаяся, с закатанными по локоть рукавами белой рубашки.
— Вот Федору Ивановичу наутро вместо подарка, — смущенно улыбнулся Аврамов.
Рутова, подпирая ладонями подбородок, смотрела на него влажно мерцающими глазами. Он отложил поделку в сторону:
— Софья Ивановна, не стану я, пожалуй, откладывать разговор с тобой. Вот сейчас маненько с духом соберусь и начну. А то ведь как у нас может быть: откладываешь на потом, откладываешь, а потом тебя самого в сторону отложат в деревянном ящике. Как ты на это смотришь?
— Думаю, вы правы, Григорий Васильевич. Только не насчет ящика. А просто не стоит важное откладывать на потом. Так что вы говорите, а я стану слушать и никаким образом вам не помешаю.
— Значит, так, Софья Ивановна... поскольку вы да я, как говорят у нас в Рязани, одного поля ягоды... ну в смысле одинокой жизни... это раз. Во-вторых, дела у нас с вами общие. А в-третьих, я вам, кажется, даже не противен, а вы мне совсем даже наоборот... ну то есть до отчаянного сердцебиения и темноты в глазах с того момента, как я вас в больнице увидел... предлагаю вам... то есть прошу у вас руки и сердца.
Он помолчал, сказал оторопело:
— Это же черт знает, как все у меня бестолково вышло. Ах ты господи... толком объяснить ситуацию дорогой женщине не могу, дожил, задубел весь, хоть плачь!
— А вы еще раз, — попросила Рутова, — женщина таких слов, бывает, всю жизнь ждет. Мне, выходит, повезло. Я только половину прожила и уже услышала. Одно неладно: ужасно коротко у вас все получилось. И не разберу сейчас — было что или померещилось мне.
— Еще я хочу вам сказать, Софья Ивановна, если ответите мне согласием, буду считать, что нашел окончательно и бесповоротно весь смысл своей жизни. А то, знаете, в последнее время страх одолевать стал. — Он виновато, обезоруживающе улыбнулся: — Случись такое, что придет на операции последний час, до конца минутки останутся, а имени женского, которое надо вспомнить, в эти минуты и нет. А теперь есть оно у меня, появилось. Думаю, что с вашим именем и черту подводить не страшно. В этом есть мой персональный смысл на сегодня.
— Григорий Васильевич, родной вы мой! — Она не вытирала катившихся по щекам слез. — Что это вы сегодня все о смерти! Радость у меня необъятная. Я хочу быть вашей женой, отчаянно хочу.
Помолчали, согревая друг друга теплом глаз, ошеломленно, жадно, в упор разглядывая друг друга, наслаждаясь, что наконец-то не надо таиться — от окружающих ревнивых и бдительных взоров, от самих себя.
— Григорий Васильевич, ужинать будем? — спросила Рутова. — У меня вареная картошка, масла немного и молока осталось от Федора Ивановича. Ужас как наголодался парнишка!
— Давай, Сонюшка, не откажусь. Проголодался и я до звероподобного состояния. Картошка с маслом да еще молоко — это же поразительная роскошь на данный момент.
С этой минуты каждый миг уходящего вечера стал наполняться такой необъятной радостью, что она казалась нереальной. Они открывали друг у друга до этого не замеченное.
Под самое утро в дверь кухни тихо стукнули, потом еще раз. И хотя робок и невесом был этот стук, его услышала Рутова. Вздрогнула, спросила, не открывая глаз:
— Кто?
— Это я, тетенька Соня, — приглушенно отозвался из-за двери мальчишеский голос.
Аврамов позвал:
— Чего ж ты, Федор Иванович, скребешься? Давай двигай к нам.
Дверь приоткрылась — и бесплотным духом в комнату просочился Гусев. Постоял переминаясь. Волнуясь, объявил:
— Я, конечно, очень извиняюся, только неотложная штука мне припомнилась, дяденька чекист. Привиделась она мне под самое утро — и аж огнем обдало, думаю: это по вашей части.
Аврамов сел на кровати:
— Топай сюда, Федор. — Усадил рядом, прикрыл одеялом его худые плечи, обнял. — Ну, теперь давай, брат, твою неотложную штуку, коль она по нашей части.
— Значит, так... — начал Гусев, прижавшись к Аврамову. — Сижу я в товарном вагоне вчера вечером, аккуратно сижу, натуральной мышью, поскольку ссаживали меня уже два раза, дожидаюсь отхода на Батум. Слышу за стенкой рядом шаги. Сошлись трое. И один грузин говорит: «Ранняя нынче осень». А другой, негрузин, ответил: «Да, журавли уже улетели, и картошка подорожала». Тут меня сомнение взяло: чего это они? Сошлись ночью, ни здрасьте вам, ни до свиданья, а сразу про картошку. И при чем тут журавли? Врут ведь, не улетали еще журавли, я это дело всегда примечаю. Сижу, дальше слушаю. Грузин говорит: «Слава богу, здравствуйте, господа!», а голос густой, вроде у попа в церкви. Негрузин говорит: «С прибытием вас. Идемте. Отдохнете с дороги, потом переправим к Янусу»,