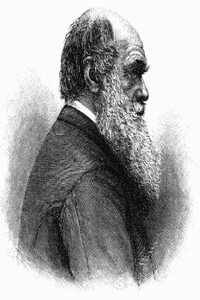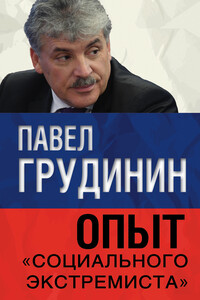и высказал мысль, что многие из осадочных водных пород изменились впоследствии под влиянием жара (так называемые метаморфические породы). Это – два важных приобретения, которыми наука обязана шотландскому ученому.
Как общая теория, его учение не многим превосходило вернеровское, – даром что исходило из совершенно противоположного принципа. Основная идея Гёттона – единство прежних и нынешних сил природы – совершенно справедлива, но, высказанная в такой общей форме, она не объясняла реальных явлений. Это была формула, лишенная конкретного содержания, рамка без картины. Сказать, что прошлые и нынешние геологические агенты одинаковы, еще не значит объяснить образ действия этих агентов. Нужно показать, что ныне действующие силы действительно преобразуют вид земной коры и достаточны для произведения всех тех переворотов, о которых свидетельствуют геологические памятники. Вот в этом-то отношении учение Гёттона оказывалось несостоятельным. Его основная идея оставалась только благим намерением; он не мог объяснить с ее помощью конкретных явлений и прибегал к старинной теории периодов потрясения, выдвигавших материки, и покоя, когда эти материки разрушались.
Теории Гёттона и Вернера возбудили ожесточенную, продолжительную и бесплодную войну нептунистов с вулканистами, окончившуюся к общему удовольствию после того, как самые упорные бойцы обоих лагерей должны были согласиться, что земная кора прошла, так сказать, и огонь, и воду, и что она состоит из огненных (гранит, базальт и др.), водных (песчаники, известняки и пр.) и метаморфических (кристаллические сланцы) пород.
Гёттон и Вернер не занимались окаменелостями, труды их сильно подвинули вперед собственно минеральную геологию. Но одновременно с этим науке был дан толчок и в другом направлении. В конце XVIII столетия Вильям Смит показал, что определенные окаменелости характеризуют определенные пласты, расположенные в определенном порядке последовательности. Это было основное, капитальное открытие, из которого выросла современная классификация геологических напластований.
В то же время окаменелости подверглись изучению с другой точки зрения. Кювье попытался оживить ископаемые остатки, воскресить угасшее население давно минувших эпох. Попытка увенчалась успехом: мамонты, мастодонты, мегалониксы, ихтиозавры, крылатые ящеры вышли на свет Божий из недр земных. Создалась новая наука – палеонтология.
Под влиянием этих одновременных толчков геология двинулась вперед на всех парах. Горные породы изучались с минералогической точки зрения, классифицировались по окаменелостям, сравнивались и параллелизовались в различных странах, заключенные в них остатки исследовались по методу Кювье, и представители древних эпох, «разрушенные терпеливым временем», восстанавливались не менее терпеливыми палеонтологами. В какие-нибудь 25—30 лет было сделано больше, чем за всю предыдущую эпоху со времени гимнов Веды.
В Англии геология расцветала пышнее, чем где-либо. На смену Гёттону, Плайферу (приверженец и популяризатор гёттоновских воззрений) и В. Смиту выступила целая фаланга рьяных и даровитых исследователей. Конибир, Филипс, Де ла Беш, Мантель издали ряд важных монографий по описательной геологии, Гриноф составил геологическую карту Англии, Скроп и Добени положили начало правильной теории образования вулканов… Все они ко времени Лайеля были уже заслуженные геологи, а почти одновременно с ним начали свою карьеру Сэджвик, Мурчисон, Ричард Оуэн.
Вместе с тем все сильнее и сильнее сказывалась потребность в общей теории, которая связала бы накапливавшиеся материалы универсальной схемой, давая в то же время ответ на частные, конкретные, определенные вопросы, возникавшие при ближайшем ознакомлении с фактами. Между тем именно в этом отношении наука направилась на ложный путь. Зерно истинной теории, которое тщетно пытались взрастить Аристотель, Страбон, Леонардо да Винчи, Гёттон, Плайфер, было затоптано. Казалось, геологическая почва может производить только цветы фантазии. Воображение геологов разыгралось, подстрекаемое быстрыми и неожиданными успехами отдельных отраслей науки. «Рассуждение о переворотах» Кювье, переведенное на все языки, служило темой для бесчисленных вариаций. Один придавал первенствующее значение потопам, другой – вулканам, третий – землетрясениям и так далее, но все соглашались, что со времени последней катастрофы «нить действий прервана, ход природы изменился и ни один из ее современных деятелей не смог бы воспроизвести ее древних явлений» (Кювье), что «в древние эпохи все геологические явления происходили в