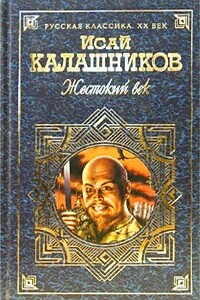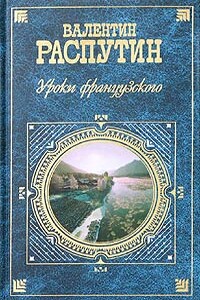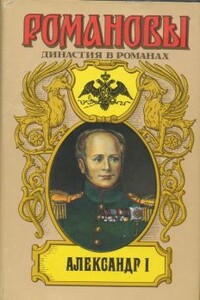– Должно сознаться, что все предшественники наши в преобразовании государств были ученики, да и сама наука в младенчестве! – воскликнул Рылеев с восхищением.
Но Пестель, пропустив мимо ушей похвалу, продолжал экзамен.
– Итак, мы с вами согласны?
– Да, во всем!
– Какое же ваше мнение насчет меры к приступлению к действию? – проговорил Пестель медленно, упирая на каждое слово.
Рылеев давно уже предчувствовал этот вопрос; видел его сквозь магический сон, как змея видит чарующий взор своего заклинателя. Понял, что Пестель – не то, что все они, – романтики, словесники, мечтатели: для него понять – значит решить, сказать – значит сделать. И впервые показалось Рылееву все легкое в мечтах – на деле грозным, тяжким, ответственным.
– Не знаю, – невольно потупился он, но и не видя чувствовал на себе тяжелый взгляд: – мы еще не готовы, не решили многого…
– Не решили? Не знаете? У вас тут Никита Муравьев все пишет конституции. А нам не перьями действовать… Да, от размышления до совершения весьма далече… Так как же, Кондратий Федорович?
– Что вы меня все спрашиваете, Павел Иванович? – поднял Рылеев глаза и вдруг почувствовал, что вот-вот разозлится окончательно, наговорит ему дерзостей. – А вы-то сами как?
– Как мы? – ответил Пестель тотчас же с готовностью, тихо и как будто задумчиво. – Мы полагаем, – всех…
– Что всех?
– Истребить всех, начать революцию покушением на жизнь всех членов царской фамилии. Les demimesures ne valent rien; nous voulons avoir maison nette… Вы по-французски говорите?
– Нет, не понимаю.
– Полумеры ничего не стоят; мы хотим – дотла, дочиста, – на всякий случай перевел он и прислушался к шагам в соседней комнате.
– Кто это?
– Жена моя.
– При ней можно?
– Можно, – невольно усмехнулся Рылеев. – Впрочем, если вы беспокоитесь…
– Нет, помилуйте. Я, кажется… Извините, Бога ради, я иногда бываю очень рассеян: о другом думаю, – улыбнулся Пестель неожиданной, простодушной улыбкой, от которой лицо его вдруг изменилось, помолодело и похорошело.
«Чудак!» – подумал Рылеев, и ему показалось, что как ни пристально глядит на него Пестель, а не видит лица его, смотрит поверх или сквозь него, как сквозь стекло.
Шаги затихли.
– О чем, бишь, мы? – продолжал Пестель. – Да, – всех или не всех?.. Так вы не решили, не знаете?
– Знаю одно, – опять хотел возмутиться Рылеев, – ежели – всех, то вся эта кровь на нас же падет. Убийцы будут ненавистны народу и мы с ними. Подумайте только, какой ужас подобные убийства произвести должны! Мы вооружим всю Россию…
– О, конечно, мы об этом подумали и решили принять меры. Избранные к сему должны находиться вне Общества; когда сделают они свое дело, оно немедленно казнит их смертью, как бы отмщая за жизнь царской фамилии, и тем отклонит от себя всякое подозрение в участии. Нам надобно быть чистыми от крови. Нанеся удар, сломаем кинжал.
Рылеев вспомнил, что почти теми же словами думал он о Каховском; но это была его самая тайная, страшная мысль, а Пестель говорил так просто.
– Сколько у вас? – спросил он так же просто.
– Сколько чего?
– Людей, готовых к действию.
– Двое.
– Кто?
– Якубович и Каховский.
– Надежные?
– Да… Впрочем, не знаю, – замялся Рылеев, вспомнив давешний свой разговор с «храбрым кавказцем». – Якубович, тот, пожалуй, не совсем. Каховский надежнее.
– Значит, один-двое. Мало. У нас десять. С вашими двенадцать или одиннадцать. И то мало…
– Сколько же вам?
– А вот, считайте.
Сжал пальцы на левой руке, готовясь отсчитывать правою.
– Ну-с, по одному на каждого. Сколько всех?
Держа руки наготове, ждал.
Ночь была светлая, но от высокой стены перед самыми окнами темно в комнате; и в темноте еще белее белая рука с алмазным кольцом, которое слабо поблескивало в глаза Рылееву. Опять чарующий взор заклинателя, опять магический сон.
– Ну, что ж, называйте, – как будто приказал Пестель.
И Рылеев послушался, стал называть:
– Александр Павлович.
– Один, – отогнулся большой палец на левой руке.
– Константин Павлович.
– Два, – отогнулся указательный.
– Михаил Павлович.
– Три, – отогнулся средний.
– Николай Павлович.
– Четыре, – отогнулся безымянный.
– Александр Николаевич.