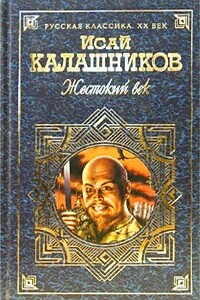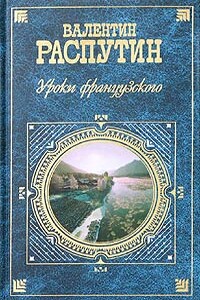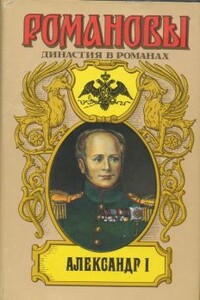– А ведь вы наш, отец Петр, – сказал ему однажды Голицын.
– Наконец-то поняли, – весь просиял отец Петр. – Ваш, друзья мои, ваш! С такими людьми жить и умереть!
12 апреля, в Вербное воскресенье, вошел Мысловский к Голицыну, в ризе, с чашей в руках и сказал, что причащает узников.
– А вы, князь, не желаете? – спросил так же, как в первое свидание, три месяца назад, и Голицын так же ответил:
– Нет, не желаю.
– Почему же?
– Потому, что не хочу смешивать Христа со Зверем.
И он объяснил ему свою давнюю мысль о кощунственном соединении Кесарева с Божьим, царства с церковью
– Ну, а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодный хлеба и в вертепе разбойничьем?
Голицын умолк, обезоруженный: так умилило и ужаснуло его это смирение, может быть, не только отца Петра, но и всех, кто за ним.
– Вы знаете, отец Петр, за что я к злодеям причастен, и знаете, что я ни в чем не раскаиваюсь. И нераскаянного причастили бы?
– Причастил бы.
– И убийцу?
– Что вы, князь. Бог с вами, кого вы убили?
– Все равно, хотел убить – убить Зверя во имя Христа. Можно во имя Христа убить, отец Петр, как вы думаете?
Отец Петр стоял у окна. Луч солнца падал на золотую чашу в руках его, и она сияла, как солнце. Руки его дрожали так, что казалось, – уронит чашу. Губы шевелились беззвучно: хотел что-то сказать и не мог.
– Не знаю, – проговорил, наконец. – Я вас не сужу. Бог рассудит…
Голицын опустился на колени.
– Простите, отец Петр! Если бы вы и могли, я не могу… – прошептал он, поцеловал руку его и пал ниц перед чашею.
Отец Петр благословил его молча и вышел.
18 апреля, в Светлую ночь,[214] Голицын не спал – все ждал чего-то, прислушивался. Но сквозь глухие стены каземата ни один звук не проникал, тишина была мертвая. Встал на подоконник и выглянул сквозь дыру вентилятора; здесь, в новой камере, тоже выломал из него перышки.
Увидел только темноту, как чернила черную. Приложил ухо к дыре и, как смутное жужжание пчелиного улья, услышал глухой гул колоколов – пасхальный благовест.
Никогда, казалось, не чувствовал так, как здесь, в каземате, погребенный заживо, что Христос воскрес.
В мае начали водить арестантов на прогулку в садик, внутри Алексеевского равелина. Повели и Голицына.
Когда он переступил порог наружной двери, солнечный свет ослепил его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останавливал дыхание, и, как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Фейерверкер Шибаев поддержал его под руку и повел в садик.
Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца; стены – гранитные, гладкие, голые, без окон, снизу поросшие зеленым мхом и лишаями желто-серыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окованной железом, с железной решеткой.
Немного травки, несколько кустиков сирени, бузины и черемухи, две-три березки; между ними – деревянная полусломанная лавочка и, у одной из стен, дерновый холмик с ветхим покачнувшимся крестиком, – как объяснил Шибаев, – могила утонувшей во время наводнения узницы, княжны Таракановой.
Садик был жалкий, а Голицыну казался Божьим раем. И как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытною жадностью на желтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки березовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар, облака.
Заиграли куранты, как будто над самой головой его. Он взглянул вверх.
– Пожалуйте сюда, ваше благородие, отсюда видать, – указал ему Шибаев на один из углов треугольника. Голицын подошел, встал на рундук водосточного желоба, прислонясь спиной к стене, и увидел ослепительно сверкавшую на солнце, как огненный меч, золотую иглу Петропавловской крепости с архангелом, трубящим в трубу как бы в знак того, что узники выйдут на волю из этой живой могилы только в воскресение мертвых.
Опять вернулся в середину садика и сел на лавочку. Шибаев что-то говорил, но он его не слышал. Тот понял, что Голицын хочет остаться один; отошел, отвернулся и закурил трубочку.
Голицын долго глядел на тонкий белый ствол березки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекой и закрыл глаза. Вспомнил Мариньку: «Выбегу, бывало, в рощу; молодые березки – тоненькие, как восковые свечечки; кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!»