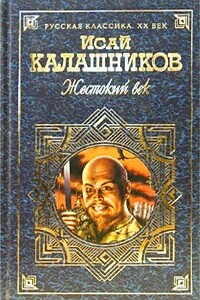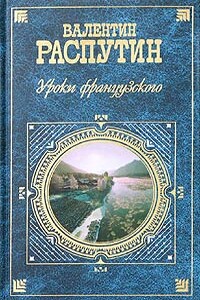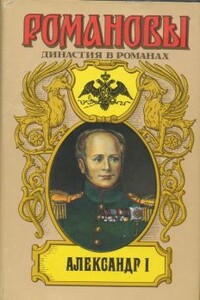Верховный Следственный Комитет по делу Четырнадцатого открыл заседания сначала в Зимнем Дворце, а потом в Петропавловской крепости. Все дело вел сам государь, работая без отдыха, часов по пятнадцати в сутки, так что приближенные опасались за его здоровье.
– Point de relâche![195] Что бы ни случилось, я дойду с Божьей помощью до самого дна этого омута! – говорил Николай Бенкендорфу.
– Потихоньку, потихоньку, ваше величество! Силой ничего не возьмешь, надо лаской да хитростью…
– Не учи, сам знаю, – отвечал государь и хмурился, краснел, вспоминая о Трубецком, но утешался тем, что эта неудача произошла от немощи телесной, усталости, бессонницы; было раз и больше не будет. Отдохнул, успокоился и опять, как тогда, после расстрела на площади, почувствовал, что «все как следует».
Рылеева допрашивали в Комитете, 21-го Декабря, а на следующий день привезли во дворец на допрос к государю.
«Только бы сразу конец!» – думал Рылеев, но скоро понял, что конец будет не сразу: запытают пыткой медленной, заставят испить по капле чашу смертную.
На другой день после ареста государь велел справиться, не нуждается ли жена Рылеева в деньгах. Наталья Михайловна ответила, что у нее осталась тысяча рублей от мужа. Государь послал ей в подарок от себя две тысячи, а 22 декабря, в день ангела Настеньки, дочки Рылеева – еще тысячу от императрицы Александры Федоровны. И обещал простить его, если он во всем признается. «Милосердие государя потрясло мою душу», – писала она мужу в крепость.
Больше всего удивило Рылеева, что подарок послан ко дню Настенькина ангела: значит, об имени справились. «Какие нежности! Знает чем взять, подлец! Ну, а что, если…» – начал думать Рылеев и не кончил: стало страшно.
Однажды поблагодарил коменданта Сукина за свидание с женою. Тот удивился, потому что не разрешал свидания; подумал, не вошла ли без пропуска. Допросил сторожей; но все подтвердили в один голос, что не входила.
– Должно быть, вам приснилось, – сказал он Рылееву.
– Нет, видел ее, вот как вас вижу. Сказала мне, что я и знать не мог, – о подарке государевом.
– Да ведь вы об этом в Комитете узнали.
– В Комитете потом, а сначала от нее.
– Может быть, забыли?
– Нет, помню. Я еще с ума не сходил.
– Ну, так это была стень.
– Какая стень?
– А когда наяву мерещится. Вы больны. Лечиться надо.
«Да, болен», – подумал Рылеев с отвращением.
Вечером 22-го привезли его на дворцовую гауптвахту, обыскали, но рук не связывали; отвели под конвоем во флигель-адъютантскую комнату, посадили в углу, за ширмами, и велели ждать.
Он старался думать о том, что скажет сейчас государю, но думал о другом. Вспоминал, как в ту последнюю ночь, когда пришли его арестовать, Наташа бросилась к нему, обвила его руками, закричала криком раздирающим, похожим на тот, которым кричала в родах:
– Не пущу! Не пущу!
И обнимала, сжимала все крепче. О, крепче всех цепей эти слабые нежные руки – цепи любви! Со страшным усилием он освободился. Поднял ее, почти бездыханную, понес, положил на постель и, выбегая из комнаты, еще раз оглянулся. Она открыла глаза и посмотрела на него: то был ее последний взгляд.
«Я-то хоть знаю, за что распнут; а она будет стоять у креста, и ей самой оружие пройдет душу[196] а за что – никогда не узнает».
Так думал он, сидя в углу, за ширмами, во флигель-адъютантской комнате.
А иногда уже не думал ни о чем, только чувствовал, что лихорадка начинается. Свет свечей резал глаза; туман заволакивал комнату, и казалось – он сидит у себя в каземате, смотрит на дверь и, как тогда, перед «стеной», ждет, что дверь откроется, войдет Наташа.
Дверь открылась, вошел Бенкендорф.
– Пожалуйте, – указал ему на дверь и пропустил вперед.
Рылеев вошел.
Государь стоял на другом конце комнаты. Рылеев поклонился ему и хотел подойти.
– Стой! – сказал государь, сам подошел и положил ему руки на плечи. – Назад! Назад! Назад! – отодвигал его к столу, пока свечи не пришлись прямо против глаз его. – Прямо в глаза смотри! Вот так! – повернул его лицом к свету. – Ступай, никого не принимать, – сказал Бенкендорфу.