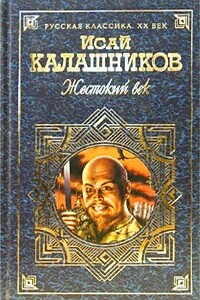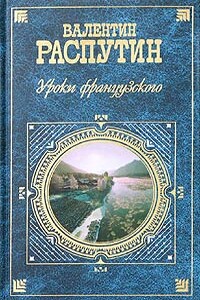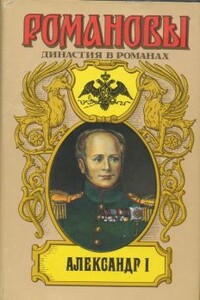– Маринька! – сказал Голицын, открывая глаза. В первый раз очнулся после беспамятства. Еще давеча, в бреду, не видя ее, чувствовал, что она тут, рядом, и мучился, что не может ее позвать.
– Что, Валерьян Михайлович, миленький? – наклонилась она и заглянула в глаза его испуганно-радостно. – Ну, что? что? – старалась понять, чего он хочет.
Он хотел спросить, что с ним и где он, но был так слаб, что не мог говорить; боялся опять провалиться в ту черную дыру беспамятства, из которой только что вылез. Сам хотел вспомнить; вспоминал и тотчас опять забывал. Мысли обрывались, как истлевшие нитки. Развлекали мелочи: множество стклянок с рецептами на ночном столике, пламя восковой свечи под шелковым зеленым зонтиком, однообразно-тихое тиканье карманных часиков, должно быть, его же собственных, лежащих на столике.
– Который час? – проговорил, наконец, с осторожным усилием.
– Половина седьмого, – ответила Маринька.
«Утра или вечера?» – хотел спросить и забыл – подумал о другом: сколько времени болен? Помолчал, отдохнул и спросил:
– Какой день?
– Четверг.
«А число?» – опять забыл спросить. Вдруг, в тишине, послышался глухой гул, подобный гулу далекого выстрела.
«Неужели все еще стреляют?» – удивился и вспомнил, что такие же гулы слышались ему сквозь бред, и каждый раз хотелось бежать туда, где стреляют, – двигал ногами, бежал – и стоял. «Стоя-стоя-стоячая!» однообразно-тихо тикали часики. И он понимал, что это значит: «революция стоячая».
– Вспотел, – сказала Маринька, положив ему руку на лоб.
– Ну, слава Богу! – ответил радостно Фома Фомич. Голицын узнал его по голосу. – Лекарь намедни сказывал: только бы вспотел – и будет здоров.
Она вытирала платком пот с лица его. Он смотрел на нее, как будто вспоминал, как сквозь вещий сон, незапамятно-давний, много раз виденный: милая, милая девушка; окружена благоуханием любви, как цветущая сирень – свежестью росною. На ней был старенький домашний капот, гроденаплевый, дымчатый, и ночной блондовый чепчик; из-под него висели, качаясь, как легкие гроздья, вдоль щек, длинные, черные локоны. Лицо немного похудело, побледнело, и большие, темные глаза казались еще больше, темнее.
– Родная, родная, милая! – прошептал он и потянулся к ней.
Глаза их встретились; она улыбнулась. Поняла, чего он хочет. Приложила к его губам ладонь, теплую и свежую, как чашечка цветка, солнцем нагретого.
– Надо бы лекарства, Марья Павловна, – сказал Фома Фомич.
Маринька налила в ложку лекарства и подала Голицыну. Оно было вкусное, с миндально-анисовым запахом.
– Еще, – попросил он с детской жадностью.
– Больше нельзя. Пить хотите?
– Нет, спать.
– Погодите, голова низко.
Одной рукой обняла его за плечи и приподняла голову с неожиданной силой и ловкостью, другой – начала поправлять подушки. Пока приподнимала, он чувствовал прижатой щекой сквозь платье упругую нежность девичьей груди.
– Так хорошо? – спросила, положив голову.
– Хорошо, Маринька… маменька…
Сам не знал, нарочно или нечаянно сказал: «Маменька». Опять глаза их встретились; она улыбнулась ему, и он повторил умиленно-восторженно:
– Маменька… Маринька…
Хотел еще что-то сказать, но темные, мягкие волны нахлынули; только слышал, что она целует его в лоб, крестит и шепчет:
– Спи, родной, спи с Богом!
Закрыл глаза с улыбкой; казалось, что она берет его на руки и качает, баюкает.
Проспал до одиннадцати утра. Кошка Маркиза, белошерстая, голубоглазая, настоящая «маркиза» по жеманно-медлительной важности, всю ночь проспала, свернувшись клубочком, на крышке клавесин. К утру выспалась, встала на все четыре лапки, выгнула спину, замурлыкала и спрыгнула на клавиши – они зазвенели и разбудили Голицына.
– Брысь, негодная! Ну вот и разбудила! – затопала на нее Маринька.
– Потап Потапыч Потапов! – послышался вдали крик попугая, и Голицын сразу понял, что он в старом бабушкином доме. Но комната была не его, а желтая чайная, рядом с голубой диванной. Потом объяснили ему, что из маленькой спальни на антресолях, где было душно и тесно, перевели его в эту комнату.