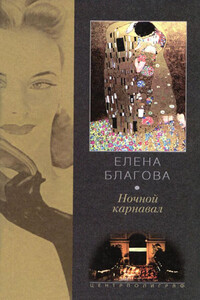И опять собираюсь и иду на улицу.
Как на рыбалку. Как на охоту.
И вот однажды, когда я моталась по городу и детей своих щелкала для диплома – что-то со мной такое произошло.
Это я уже потом поняла, что.
А тогда – ни черта не поняла.
Навожу объектив – снимаю. Навожу – снимаю. Навожу…
Вот отличная мордаха, подумала – и выхватила из толпы глазами румяное личико. Пацан лет пяти-шести. «Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести…» – ни к селу ни к городу вспомнила я детские стишки, наводя объектив, устанавливая выдержку.
Пацан стоял около парапета набережной и сосредоточенно, деревянной палочкой, ел мороженое. Розовое мороженое. В вафельном рожке.
Снизу рожок протек, и растаявшее мороженое капало дитенку на рубашку, белые капли ползли по животу, плюхались на башмачки. Он ел. На румяном, как персик, личике было написано неизъяснимое удовольствие.
Я навела объектив. Выдержка была что надо.
Прицелилась…
…и выстрелила.
Я выстрелила, и я попала сразу. Ребенок раскинул ручки в стороны, будто пытался уцепиться за воздух. Будто хотел ухватиться за то, что исчезало, таяло с каждой секундой, как это розовое мороженое. Очень сладкое. Очень дорогое. Единственное.
Ребенок стал падать, и я увидела, как рот его раззявился в крике, но крика я не услышала. Я вообще ничего не слышала – оглохла. Уши будто мороженым залепило. По груди, по животу падающего мальчика ползло яркое, красное, темно-красное. Мороженое внезапно стало густо-вишневым. И горьким. Очень горьким. Соленым.
Я закусила губу. По подбородку поползло теплое, тоже соленое.
Мальчик уже упал на землю. Он все раскрывал рот в беззвучном крике. Дергал ручками. Сучил ножонками на асфальте. Нет, это был не асфальт, а странные белые, острые камни, выветренные, дикие. Как кости.
Я попала, я попала, шептала я себе тоже беззвучно. Я подстрелила его метко, наповал. Как птицу. Как дичь. Мальчика. Ребенка. Чьего-то сына. Чужую жизнь. Я отняла то, что не мной было рождено. Стояла, наблюдая дело рук своих. И вся покрывалась липким, как мороженое, холодным потом. Кошмар. Это кошмар. Он сейчас кончится. Сейчас. Сейчас. Надо только отбросить прочь винтовку. И больше не смотреть в прицел. Ну же. Ну!
И я с силой швырнула винтовку, тяжелую черную «моську», вбок.
И сама упала около нее.
И все кончилось. Все. Навсегда.
– Тетя, тетя, вставайте! Вставайте!
Я разлепила глаза. Глаза тоже залепили мороженым.
– Тетя, тетечка!
Пацан тянул меня за руку, чтобы я встала с тротуара. Его лапка была вся липкая от мороженого.
– Вы аппарат уронили!
Я, сидя на асфальте, оглянулась. Рядом лежал «Зенит». Я протянула занемевшую руку и подтащила аппарат к себе за ремешок.
– Спасибо, мальчик, – сказала я пацаненку слабым, как паутина, голосом, – я это… Я не нарочно. Я нечаянно. Больше не буду.
И улыбнулась ему изо всех сил, как могла, хотя губы мои прыгали.
И он улыбнулся мне в ответ, – передних двух зубиков, резцов, у него не было, – и вытер сладкие ладони о штаны.
Хорошие фотографии отобрала, напечатала, рамочки деревянные купила, в рамочки одела, педагогу принесла. Он очки на лоб вздел, долго глядел, потом тяжело вздохнул. «Ну что же, защищайся. Ничего тут не скажешь. Хорошие у тебя детишки».
ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ.
Я на всю жизнь запомнила эту фразу.
ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ. ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ.
За диплом мне поставили пять и присвоили квалификацию – художник-фотограф четвертой категории. Высшей, значит.
Мой педагог скромный был, за девчонками не ухаживал, хотя молодой был и симпатичный, и за мной тоже не бегал, да и я дурнушка была, по крайней мере так все всегда считали, и я сама так считала. Но он очень добрый был. Хорошо ко мне относился. Ласково. Он меня работать и пристроил. Фотографом в глянцевый журнал.
Работы в журнале было много, сними то, сними это, отдыхать особенно было некогда. Но отдыхать хотелось. И веселиться хотелось – я же молодая была.
А в редакции все были какие-то важные, дородные, надменные… и невеселые. Уже отвеселились свое. У них там даже праздники без шампанского отмечали, только тортик покупали к чаю. Говорили: у главного денег нет. А в складчину всем жалко денег было, зарплаты выдавали маленькие, и их все время задерживали. Зато журнал выходил лаковый, лощеный, дорогой, цветной, яркий, как конфетка. И такой же обманный: развернешь, пролистнешь, ам – и сжевал, а голодным остался, есть-то нечего, один радужный воздух.