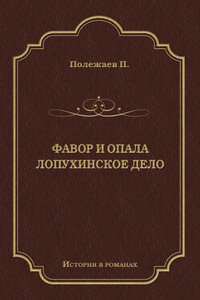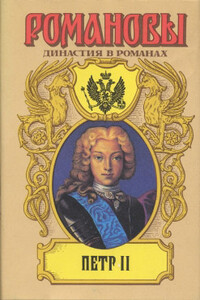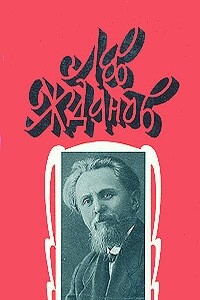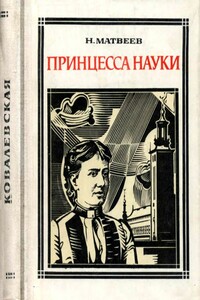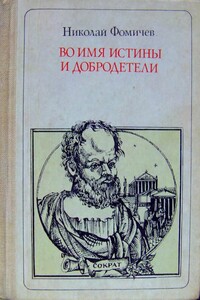Но барон, видимо, колебался. Честный и искренно преданный кронпринцессе, он боялся связать себя словом, исполнение которого зависело не от него одного.
— Вы знаете, ваше высочество, я рад… готов выполнить каждое ваше поручение, — уверял он, едва удерживаясь от душивших его рыданий, — но… знаете, я не могу располагать собою…
— Знаю, барон, но государь милостив… Он не откажет если вы передадите ему просьбу умирающей. Обещаете вы?.. Дайте руку…
Барон подал руку; больная последним усилием сжала ее, видимо успокаиваясь и отдыхая.
— Мне горько не проститься лично с государем и не поблагодарить за все его милости… Он болен сам, а то, верно, навестил бы меня… Передайте ему, барон, вот это письмо… мои последние слова… и все… все, что от меня слышали… Скажите, что я его благодарю… желаю ему счастья… благополучия…
Умирающая говорила отрывисто, с заметным усилием выговаривая каждое слово, но с полным сознанием и в ясной памяти. Утомившись, она закрыла глаза и, по-видимому, заснула.
Прошло несколько минут Больная дышала тихо и слабо, но спокойно. Потом вдруг она вскинула голову и стала говорить порывисто, как будто спеша наговориться, высказать все, что было на душе:
— Обо мне много было вымыслов… сплетен… пожалуй, припишут мою смерть несчастной жизни и горю… Напишите, барон, моим родным, что это неправда… что я умираю по болезни… что я всегда была довольна милостями государя и государыни… Выполнено больше, чем было в контракте…
Кронпринцесса остановилась. От внутреннего жара с пересохших губ вылетали отрывистые, несвязные слова, которых расслышать было почти невозможно. Принцесса Ост-Фрисландская подала ей питье, которого больная проглотила несколько капель.
— Напишите же, барон, моим, — начала она снова, — что государь не был при моей смерти по своей болезни, но что он присылал всех своих докторов… и Меньшикова… приказывал употребить все старания спасти меня… Делали все, что могли… До последней минуты от государя я видела любовь и попечение… Это меня утешает… Отпишите матушке и сестре, римской цесаревне, мою последнюю волю, чтоб они употребили все силы сохранить дружбу между государем и римским цесарем… От этого будет польза моим детям… Успокойте герцогиню Брауншвейгскую и князя Ост-Фрисландского насчет принцессы… Напишите, что она будет пользоваться милостями государя… вверена вашему попечению…
Продолжительная речь истощила последние силы, и умирающая, казалось, забылась, только по временам еще шевелились бескровные губы.
— Теперь у меня на сердце ничего нет… все сказала… Буду готовиться явиться к Господу… Прощайте, барон…
Левенвольд, несколько раз поцеловав с глубоким чувством протянутую руку, на которую скатилась не одна его слеза, тихо удалился из спальни, а принцесса Ост-Фрисландская, опустившись на колени у постели умирающей, старалась заглушить рыдания.
Но на сердце у кронпринцессы не все еще умерло; земные цепи все еще цеплялись за угасавшую жизнь.
Прошел час глубокого молчания.
— Мой бедный друг, не плачь… Я надеюсь на милость Божью… Мне будет там лучше, — шептала она, но потом вдруг, как-то испуганно и широко открыв глаза, громко заговорила:
— Где муж? Где он?
— Он сейчас здесь будет… я поз…
— Не нужно… не нужно… пусть там… остается… жаль его. Он погибнет… Ах, бедный сын мой!.. Дайте его скорее… скорей…
В числе придворного штата, собиравшегося для поздравления кронпринцессы, не было ни собственного придворного штата царевича, ни его самого. Это утро Алексей Петрович, по обыкновению, проводил у воспитателя своего, князя Никифора Вяземского, куда притягивала его не привязанность к хозяину, которого царевич не мог уважать, которого подчас ругал и бивал, а другое сильное чувство: у князя жила его крепостная девушка, Афросинья Федорова. С полгода назад царевич в первый раз увидал эту девушку, и с тех пор видеться с нею и любоваться ею сделалось для него необходимой потребностью.
Раз, в один из пасмурных весенних дней 1715 года, царевич Алексей Петрович, обойдя по поручению отца производившиеся работы по устройству задуманного канала, зашел к своему учителю и воспитателю отдохнуть, выпить чарочку водки и отвести душу жалобами на притеснения отца, на его непосидчивый нрав, требовавший от других таких же мозольных трудов; кстати, дом князя Никифора Кондратьевича как раз приходился на перепутье.