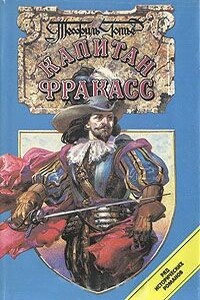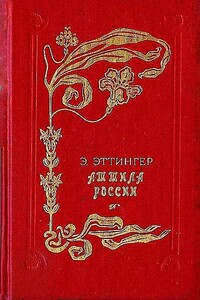Роттман, прочитав закон, прибавил, набожно возводя глаза:
— Господь обратил мой слабый язык в огненный, ибо он преодолел различные сомнения, высказанные этими достойными блюстителями нового Иерусалима. В самом деле, братья, разве не сказал каждый из вас «да»? И не подписали вы закона?
Все торжественно и почтительно подтвердили слова Роттмана, и Ян, подавляя свою радость, сказал:
— Так как вы считаете этот закон полезным, то я не откажу в утверждении, и те, кто смеется над нами и злобствуют против нас, будут посрамлены даже и с этой стороны, — будут посрамлены нашим мужественным единодушием, нашим отделением от греховного мира! Но еще не все сделано. Этот закон также возбудит врагов. Я предупреждаю Сион против Яна Молленгека: он наш опаснейший враг. Военачальникам Вулену и Леодиусу поручаю немедленно задержать Молленгека и всех, кого найдут у него. В это время прочие старейшины должны с ратуши объявить новый закон, то же должен сделать проповедник на площадях. Меченосцы народа! Блюдите за непокорными, карайте нечестивых, поучайте заблуждающихся.
Едва удалился высокий совет, чтобы исполнить возложенное на него поручение, как Ян обернулся к Петеру Блусту и старому Дузентшуеру, которые караулили у дверей, как два призрака, и слышали все происходившее.
— Что скажете вы о новой скрижали завета народа христианского? — спросил он, как бы в шутку.
Блуст, точно против воли, поклонился пророку и заметил:
— Я скажу вместе с апостолом: «Если бы вы были подобны мне, это было бы хорошо; но так как вы не таковы, как я, то можете вступать в брак».
А Дузентшуер выпрямился, погрозил пальцем и сказал:
— Ваша вера уже не чистый источник, а вонючая лужа. Берегитесь, чтобы Господь не прогневался на вас!
Ответ этот звучал для пророка неприятно. Сдерживая свое неудовольствие, он попросил Петера Блуста:
— Выйди за дверь, дорогой, и не слушай еретических мнений этого малодушного человека.
Но как только пророк остался наедине с Дузентшуером, он оттащил последнего в угол, крепко схватил его за грудь и запальчиво спросил:
— Почему, седой грешник, месть твоя сочится желчью? Чего ищешь ты, противясь мне? Злодей, лицемер, фарисей! Вместо того, чтобы направлять в меня стрелы твоего змеиного языка, почему ты не исполнишь, наконец, того, в чем поклялся мне в день смерти Маттисена?
Дузентшуер, хотя был испуган и потрясен, все-таки возразил:
— Вынужденные клятвы судит Бог; необдуманные обещания разрешает Бог; бесстыдных злодеев карает Бог. Ты молод, Бокельсон, и свободно можешь справиться с таким дряхлым старцем, как я. Но повторяю тебе: твоя вера сделалась вонючей лужей. Не в моих силах, Бокельсон, облагородить твое земное высокомерие и мирские прихоти.
— Злобный дракон! Несколько недель тому назад ты говорил иначе!
— Это было в то время, когда надо было устранить Маттисена, который сошел с ума. Я думал, что найду в тебе мирного повелителя, а тебе хочется изображать какого-то Ирода, Навуходоносора. А на это я согласия не давал.
— Требуй, чего ты хочешь, и кончай игру, которая к добру не приведет.
— Одумайся, Ян! Закон, который сейчас будет объявлен с крыльца ратуши, разобьет твои глиняные ноги.
— Совсем нет; он одевает меня броней, седой болтун. Надо, чтобы разверзлась бездонная пропасть между нами и язычниками, чтобы ни один человек в народе не мог отречься от участия в том, что совершилось. Разве сами лютеране не сделали первого шага? Разве ландграф Гессенский не состоит с благословения церкви мужем двух жен? Почему же истинная Христова община должна уступать в этом тирану?
— Делай, что хочешь, Бокельсон. Ты увидишь гнев Господен. Я не буду марать моих рук в луже твоих грехов: и то, что я уже сделал, стало мне противно.
— Нечестивец! Ты произнес себе смертный приговор!
— Не пугай семидесятилетнего смертью; мы только тень и прах!
При этих словах голос Дузентшуера задрожал.
— Нет, говорю я, ты должен жить, чтобы десять раз умереть сердцем: то, что я сказал, относится к твоему сыну.
В эту минуту вошел Ринальд с ткачом-подмастерьем, который побледнел, когда очутился перед лицом разгневанного пророка и увидел дрожащего отца.