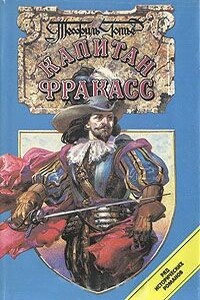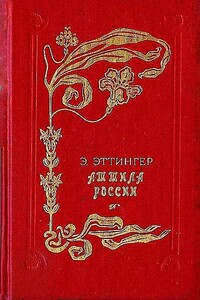— Ты одна в этом этаже? — спросил толстяк в полудворянском, полукрестьянском платье. — Отвечай: ты здесь одна живешь?
— С племянницей, — отвечала удивленная Вернеке, забыв про свое горе. — Я вас не знаю. По какому праву вы задаете мне такие вопросы?
— Я гограф[39] Шоппингена! — с важным видом отвечал вопрошавший. — А это мой двоюродный брат Берендт Крехтинг, пастор из Гильдегауза. Мы намерены всей компанией поселиться в твоем доме: тебе ведь с девчонкой достаточно места и в этой комнате.
Слуги сбросили поклажу на пол, а пришлые женщины и дети шумливо размещались по комнатам. Вернеке и ее приятельницы не верили своим глазам.
— Разве вы имеете какие-либо права на мой дом? — спросила Вернеке.
— Господь призвал сюда потомков Иакова, — отвечал пастор Крехтинг, — и все в Новом Иерусалиме должно быть разделено между ними поровну. Разве они для того пришли сюда из Брабанта и Фландрии, из Фрисландии и Оснабрюка, из Саксонии и Франконии, чтобы не иметь ни кола ни двора? Они найдут здесь все, что покинули в землях Исава. Так значится в воззвании.
— Здесь и на двадцать человек хватит места, — тараторили женщины пришельцев.
— Шоппингенцы остановились внизу, в гостинице, и выбросили хозяина за двери, потому что в новом Сионе должно царить благоговение, а не обжорство и пьянство, — сказал гограф, приведший в Мюнстер чуть не все население своего городка.
Вдруг двери прихожей раскрылись с таким треском, точно их сорвали с петель, и целая свора огромных охотничьих собак ворвалась в комнату; за ними появился Герлах фон Вулен под руку с каким-то незнакомым дворянином; каждая складка лица его выдавала беспутного кутилу и мота. Шествие замыкали несколько негодных слуг в железных панцырях, с самострелами и орудиями для охоты.
— Здесь ты будешь жить! — кричал Герлах, точно полный хозяин дома. — Этот дом обширен и, насколько я знаю, в нем живет только одна старая матрона, а с нею нечего церемониться.
— Однако зачем тут эти люди? — спросил чужестранец, Вернер фон Шейфорт. — Здесь стоит гуденье, точно в улье.
— Дорогу, вон отсюда, к черту всю шайку! — наскочил Герлах на гографа и схватился за широченный меч, торчавший наподобие метлы.
— Я гограф из Шоппингена! — заорал в свою очередь полукрестьянин. — А это мой двоюродный брат, пастор Крехтинг…
— Молчать, разрази меня гром! Прах побери гографов, прах побери проповедников! — кричали дворянчики. — Нам нужно место, к черту!
Слуги с треском бросили на пол оружие и охотничьи приспособления.
— Мы не уйдем; мы первые заняли место. Попробуйте-ка нас выгнать, нимвродовы дети и отпрыски дикого Исава! — гремел, точно с проповеднической кафедры, Крехтинг.
— Образумьтесь, болваны! — высмеивал их Вернер. — Я сын Иакова в той же мере, в какой и вы его дети. Что я потерял из моего рыцарского имущества, то трижды возместится мне здесь. А потому я хочу, я должен поселиться тут. На поверку выходит, что все углы заняты. Монастыри полны, дома патрициев и изгнанников набиты до коньков крыши, в жилищах духовных лиц царствуют девчонки и слуги, одним словом — мужичье. Там не место дворянину, и если мой друг привел меня сюда…
Я поклялся, что ты будешь здесь жить, и сдержу свое слово! — вскричал Герлах. — Выбирайтесь, язычники, не то я доберусь до ваших спин и отмолочу вас так, что только мякина полетит.
И с этими словами он стал размахивать арапником под носом пастора, а мечом — перед гографом. Те приготовились к обороне. Псы завыли, залаяли и хватали зубами и своих, и чужих; пришлые женщины взывали в окно о помощи.
— Боже, порази его, испепели это нахальное отродье! — молилась в припадке жгучей злобы Вернеке, а ее подруги хранили молчание.
Хоть и сомнительная, но помощь явилась. В разгар сумятицы нежданно-негаданно показался в дверях Бернгард Книппердоллинг. Его глаза светились чувством самоудовлетворения, в каждом слове, в каждом движении проглядывала неуклюжая величавость. За ним шла толпа гильдейских мастеров и городских прислужников, и среди них даже городской палач в зеленом одеянии; их сопровождала галдящая кучка черни и солдат.
— Что такое? Кто кричит? Кто умоляет о помощи? — разразился громом Книппердоллинг, а городские прислужники кричали, расчищая дорогу: