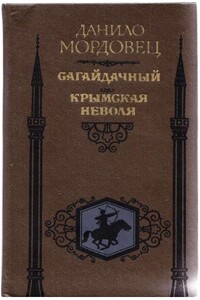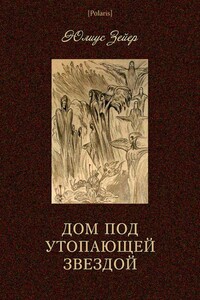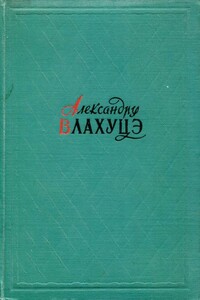Вдруг он слышит, что кто-то тихо трогает его за плечо. В изумлении он приподымает голову и… не верит глазам: перед ним стоит русалка, не то богиня этого рая… и она вся в цветах, вся сияющая, как весна, как это дивное голубое небо… На волосах ее, густых и черных, как вороново крыло, корона из цветов. И коса ее вся переплетена цветами. Гирлянды цветов обвиваются вокруг шеи вместе с кораллами и спадают вниз по белой, шитой красными узорами сорочке… Смугло-белое, матовое, без румянца личико смотрит ласково, девушка открывает розовые губы, и из-за белых, мелких, как у мышки, зубок вылетают какие-то слова, не похожие ни на польские, ни на московские, но довольно понятные…
– Чого вы плачете? – спрашивает она.
– Так… мне хорошо… я не знаю, – бормочет Павлуша, боясь взглянуть на видение.
– Та вы ж с татком приихали?
– Нет… мой татко в Москве…
Павлуша заметил, что девушка улыбнулась.
– Ни, не ваш татко, а мий – Кочубей… Вин з вами вид царя приихав до пана гетьмана…
– Да… он… я, – лепетал Павлуша, все еще не пришедший в себя.
– Може, вас кто обидив у нас?
– Нет, никто, я так заплакал, вспомнил детство.
– А вам який рик? – спрашивала девушка.
Павлуша не понимает слово «рик» и молчит, глядя вопросительно в черные, детские добрые глаза.
– Год вам який? – допытывается девушка.
Павлуша понял.
– Мне восемнадцать уже исполнилось.
– Овва! А мени вже скоро симнадцятый буде…
В это мгновенье за кустами мелькнула тень, и показалась бодрая фигура старика с седыми усами и живыми серыми глазами, которые, при постоянно понуром лице старика, смотрели словно исподлобья, но смотрели бойко, лукаво и как будто приветливо… Это был Мазепа.
– Те-те-те! – весело заговорил гетман. – Вже моя дочечка з москалем женихается…
Девушка вспыхнула. Павлуша тоже стоял растерянный – он узнал Мазепу.
– От так дивка! От так Мотренька! Вже й пидчепила царьского денщика… Ото дивчача натура! – смеялся гетман, но смеялся немножко ревнивым смехом.
– Ну бо, тату… Вам бы все жарты[11],– заговорила девушка, надув губки.
– Яки жарты! У вас тут не до жарт…
– Та вони ж бо, тату, плакали…
А вон идет и сам хозяин сада – Кочубей, осыпанный, как снегом, цветом вишен, яблонь, груш… Господи! Какой рай, какие светлые видения…
И мысль Павлуши, плывущего по неприглядной, холодной Неве, переносится в этот край, и из хмурого северного леса выступают светлые видения…
– Павел, – вдруг пробуждает его голос царя.
– Что изволишь, государь?
– Бумаги Кенигсека запечатал?
– Запечатал, государь.
– Хорошо. После спрошу.
Опять проклятые бумаги… Быть беде, как он сам увидит это страшное…
Вечером того же дня, 24 апреля, флотилия пристала к берегу недалеко от устьев Охты, где Шереметев, во главе двадцатипятитысячного войска, уже ожидал царя с флотским подкреплением. Царь прибыл не один, и не он командовал своим лодочным флотом: флотилиею командовал сам адмирал Головин, а в числе других командиров были Головкин и Меншиков. Царь всех их превратил в моряков, а сам носил звание простого бомбардирского капитана.
Ниеншанц был тотчас же обложен русским войском и со стороны суши, и со стороны Невы. Надо было торопиться взятием крепости, потому что шведская эскадра скоро должна была войти в реку с моря и спешить на помощь Ниеншанцу.
На другой день крепость была бомбардирована. Когда все было готово к приступу и всем начальникам частей отданы были соответствующие приказы – куда идти, где стоять, как действовать, царь подозвал к себе Ягужинского, который, как не принимавший еще непосредственного участия в деле и не получивший никакого особого назначения, стоял поодаль и беспокойно ожидал, что же будет дальше.
– Ну что, Павлуша, ты еще не видывал настоящей баталии? – спросил его царь ласково, взволнованным голосом.
– Не видывал, государь, – ответил юноша.
– Боишься, чай?
– Чего бояться?.. За тебя, государь, боюсь.
В холодных, быстрых взорах царя засветилась нежность. Он положил руку на плечо юноши.
– За меня не бойся… Меня хранит Бог для блага России… Молись Ему…
– Буду молиться, государь.
– Так стань там, к тому леску, и видно будет, и в безопасности находиться будешь.