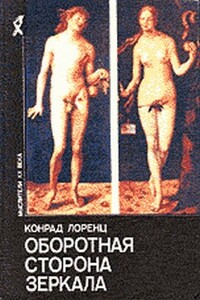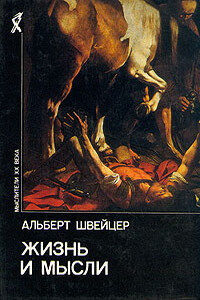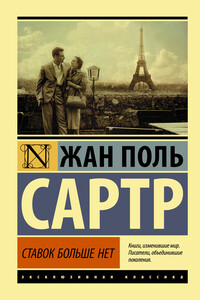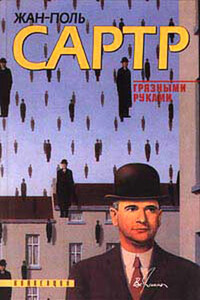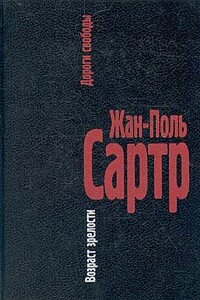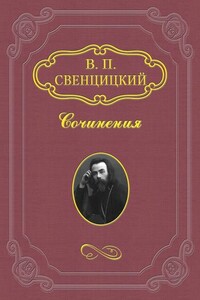только что сделал неловкий или вульгарный жест, этот жест прилип ко мне, я его не сужу, не порицаю, я просто его переживаю, я реализую его в форме для-себя. Но вот вдруг я поднимаю голову: кто-то был здесь и видел меня. Я тут же осознаю всю вульгарность моего жеста, и мне стыдно. Конечно, мой стыд не рефлексивен, так как присутствие другого по отношению к моему сознанию, будь то в виде катализатора, несовместимо с рефлексивной позицией; в поле своей рефлексии я могу всегда встретить только свое сознание. Итак, другой является неизбежным посредником, соединяющим меня со мной самим; я стыжусь, каким я являюсь другому. Посредством появления другого я даю возможность выносить суждение обо мне как об объекте, так как я являюсь другому именно как объект. Однако этот объект, явившийся другому, не есть пустой образ в уме другого. В самом деле, этот образ был бы полностью приписываемым другому и не мог бы меня «затронуть». Я мог бы чувствовать возмущение, гнев перед ним, как перед плохим своим портретом, который придает мне уродство или низость выражения, которых у меня нет; но я не смог бы быть поражен до глубины души: стыд по природе оказывается признанием. Я признаю, что я являюсь таким, каким другой меня видит. Речь тем не менее не идет о сравнении того, чем я являюсь для себя, с тем, чем я являюсь для другого, как если бы я находил в себе, по способу бытия Для-себя, эквивалент того, чем я являюсь для другого. С самого начала это сравнение не обнаруживается в нас как конкретная психическая операция; стыд является непосредственным содроганием, которое меня охватывает с головы до пят без всякой дискурсивной подготовки. Далее, это сравнение невозможно; я не могу ставить в связь то, чем я являюсь в интимности Для-себя, вне расстояния, вне отступления, вне перспективы, с этим неоправдываемым бытием-в-себе, которым я являюсь для другого. Здесь нет ни эталона, ни таблицы соответствия. Более того, само понятие вульгарности предполагает отношение между монадами. Вульгарным не бывают в полном одиночестве. Таким образом, другой не только открыл то, чем я был: он конституировал меня по новому типу бытия, которое должно поддерживать новые качества. Это бытие не находилось во мне в потенции перед появлением другого, так как оно не могло бы найти себе места в Для-себя: и даже если бы было угодно наделить меня телом, целиком конституированным, перед тем, как это тело было бы для других, мою вульгарность или неловкость не смогли бы поместить туда в потенции, так как они являются значениями и, как таковые, они возвышают тело и сразу отсылают к свидетелю, способному их понять, и к целостности моей человеческой реальности. Но это новое бытие, которое является для другого, не размещается в другом; за него ответствен я, как это хорошо показывает воспитательная система, состоящая в том, чтобы «пристыдить» детей, чем они являются. Следовательно, стыд есть мой стыд перед другим; эти две структуры неразделимы. Но сразу же у меня появляется необходимость в другом: чтобы полностью понять все структуры своего бытия, Для-себя отсылает к Для-другого. Таким образом, если мы хотим познать в целостности отношение бытия человека к бытию-в-себе, мы не можем удовлетвориться описаниями, проведенными в предшествующих главах данного произведения; мы должны ответить на два весьма важных вопроса: вначале на вопрос о существовании другого, затем на вопрос об отношении моего бытия к бытию другого.
Любопытно, что проблема Других никогда по-настоящему не исследовалась реалистами. В той степени, в какой реалист «все дает» себе, ему кажется несомненным, что он дает себе другого. В самом деле, среди реального что более реально, чем другой? Он является мыслящей субстанцией такой же сущности, как я, он не может исчезнуть в первичных и вторичных качествах, и его существенные структуры я нахожу в себе. Тем не менее в той степени, в какой реализм пытается дать отчет о познании через действие мира на мыслящую субстанцию, он не беспокоится о том, чтобы установить непосредственное и взаимное действие мыслящих субстанций друг на друга; как раз через опосредование миром они общаются; между сознанием другого и моим сознанием мое тело, как вещь мира, и тело другого оказываются необходимыми посредниками. Душа другого, следовательно, отделяется от моей всем расстоянием, которое отделяет с самого начала мою душу от моего тела, потом — мое тело от тела другого, наконец — тело другого от его души. И если неверно, что отношение Для-себя к телу является внешним (мы сможем обсудить позже эту проблему), по крайней мере, очевидно, что отношение моего тела к телу другого есть чисто индифферентное внешнее отношение. Если души отделяются посредством своих тел, они отличны друг от друга, как эта чернильница отличается от этой книги, то есть нельзя понять никакого непосредственного присутствия одной к другой. И если даже допустить непосредственное присутствие моей души к телу другого, здесь еще необходима вся плотность тела, чтобы я достиг его души. Поэтому, если реализм основывает свою уверенность на «личном» присутствии пространственно-временной вещи к моему сознанию, он не смог бы требовать ту же самую очевидность для реальности души другого, поскольку, по его собственному признанию, эта душа не дается как лично моя; она есть отсутствие, значение; тело указывает на нее, не давая ее; одним словом, в философии, основанной на интуиции, нет никакой интуиции души другого. Итак, если не играть в слова, это значит, что реализм не оставляет никакого места интуиции