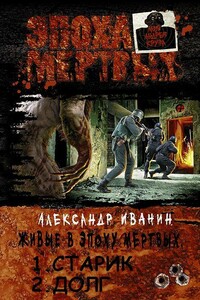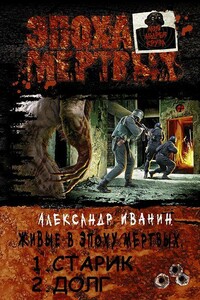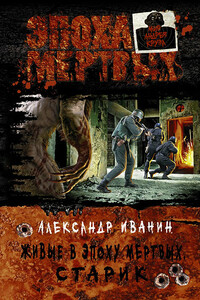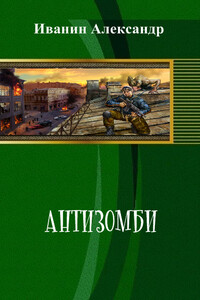Меня опять усадили на табурет.
— Не колется падла. Может повесим его в камере? Легче на самоубийство списать, чем с этим говном возиться, — говорил широколицый.
— Ты не торопись. Может он ещё осознает и покается. Тебе мало трупов что ли? На мокруху опять потянуло? Оперативника разговаривали друг с другом и упорно делали вид, что я ничего не слышу. Потом опять пришла боль. Много боли. Я ничего не сказал. Меня били и мучали, а я визжал, орал и плакал, но так и не сознался в преступлении, которого не совершал. Цена возможной слабости была исключительно высокой. Откуда-то со стороны пришла твёрдая уверенность в том, что меня осудят без разбирательств, если я сейчас проявлю малодушие. Если я признаю вину, то меня упрячут в психушку или в тюрьму, а убийцы и мучители Евы будут гулять на свободе и радоваться жизни. Было похоже на то, что я смог прочесть мысли оперативников. Я начал приходить в себя, когда меня уже куда-то волокли. Со мной абсолютно не церемонились — тащили не под руки, а волоком за шиворот. Бетонные ступени высокого крыльца больно ударили по ногам.
— Да, ты вообще, козёл, охренел! — заорал на меня Грушин. — На руках тебя носим, как царицу египетскую. А ну, сам встал и пошёл!
Шевели поршнями, урод! Меня бросили на дорожные плиты, ещё не спустившись с лестницы. Может быть, я опять потерял сознание — в памяти не отложилось, как я оказался возле старого двухэтажного здания из силикатного кирпича.
Окна здания были закрыты решётками и жалюзи из широких металлических полос. Это тюрьма? Судя по большому количеству решёток, металлических сеток и дверей внутри здания, я оказался прав — это тюрьма, хотя раньше представлял себе их по другому. Здесь даже люминесцентные лампы под потолком были в металлических сетках. Воняло омерзительно: нечто среднее между запахом казармы и общественных туалетов, густо замешенное на аромате хлорки и прогоркших щей. Серый бетонный пол, мутно-зелёные стены, выкрашенные масляной краской, красно-коричневые двери с «кормушками» и глазками для надзирателей. В конце концов, я оказался в крохотной комнатке с маленьким окошком под самым потолком. Там меня обыскали, забрали документы, ремень, шнурки из туфель и всё содержимое карманов. Я расписался в описи и ещё каких-то бумагах, которые не прочёл. После короткой лекции о правилах поведения и режиме я узнал, что нахожусь в изоляторе временного содержания. Мне вручили влажный матрас, который я не смог удержать. Он был не настолько уж и тяжёлый, но я оказался не в состоянии его поднять. О каком состоянии могла идти речь, если я едва мог удержаться на ногах. В камеру меня вели под руки. Лязгнул металл, тоненько заскрипела тяжёлая дверь. Вонючее нутро прокуренной душной камеры встретило меня тусклым светом и бетонным полом. Я очень хорошо почувствовал его холодную твёрдую поверхность, когда упал, запнувшись за порожек. Поднимать меня никто не спешил.
Скрученный матрас упал рядом на пол, а за спиной гулко хлопнула дверь, и оглушительно громко лязгнули запоры. У меня не было сил, чтобы подняться. Тело превратилась в неподъёмный манекен из деревянных чурбаков. Болело абсолютно всё, даже глаза. Перед моей головой появились две пары ног в резиновых шлёпанцах.
— Ты смори чего. Живой или нет? Под кайфом что ли? — раздался негромкий настороженный голос.
— Очумел что ли — кайф? Ты смотри покоцаный какой. Прессовали женишка. Пособите мне, — это был второй голос — сиплый, прокуренный, но уверенный и спокойный. Человек зашёлся долгим грудным кашлем. Меня подняли на руки, но не кашляющий заключённый, а двое других.
— Ложи сюда, — сказал сиплый.
— Так это моё место, — возмутился один из сидельцев.
— Твоё место на тюрьме определять будут, — оборвал его сиплый. — А здесь мы все проездом. Если этот пассажир со шконки рухнет и окочуриться, то ты его смерть на себя брать будешь? Так что лезь на пальму и не баклань. Уголовник недовольно забухтел, но больше возражать не стал. Меня уложили на освободившееся место. В камере оказалась три двухъярусные койки из металла, но с деревянными щитами вместо панцирных сеток. Наверное, это нары. Сиплый обратился ко мне: