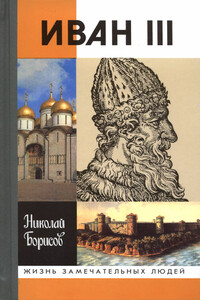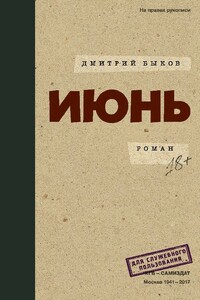Мне именно хочется жить. Ну когда вы такое видели,
Чтоб хотелось бы жить, и никак, ну никак не моглось.
Юность моя, почему тебя так обидели?
Почему это мне обидно и больно до слез.
<…>
И, наверно, жить, как монаху в священной обители.
Погасить огонь, в небеса не взводить этажи.
Юность милая, не горюй, что тебя обидели.
Проживем и так, потому что хочется жить.
Всего у Тер-Микаэляна сохранилось четыре стихотворения Окуджавы, написанных в ноябре 1941-го – августе 1942 года. Лучшее из них – заметно стилизованное под Маяковского поздравление Тер-Микаэляну ко дню рождения. Здесь есть и нарочитая грубость («Я простой поэт. И каждой пошленькой бабе обязан писать бесконечно-вздыхающий стих»), и «маяковская» утопическая вера в будущее, которое отменит все предыдущие страдания:
Ты не смотри,
Что многие,
Вздыхая и плача,
Продолжают жить
В обрывках старых
Пролинявших лент.
Это какая-нибудь
Изуродованная жизнью кляча,
Какой-нибудь навсегда
Вымирающий элемент.
У Тер-Микаэляна сохранилось также стихотворное посвящение «Матери», проникнутое верой в ее возвращение («Я увижу тебя за дверью и ее широко распахну»).
Окуджава неоднократно рассказывал, что во время войны ушел из школы и устроился на завод учеником токаря, где занимался ровировкой стволов огнемета. «Что такое ровировка, до сих пор не знаю», – признавался он Юрию Росту. Никто из его друзей этого эпизода не запомнил. По версии О. Розенблюм, Окуджава оставил школу весной 1942 года и до августа, пока не был призван, занимался загадочной ровировкой. В августе его наконец призвали, и здесь мы тоже сталкиваемся с противоречием: по идее, его должны были отправить на фронт уже в мае, по достижении полных восемнадцати. Тем не менее Окуджава настаивает, что добился призыва в апреле, и приводит живописную сцену:
«.Бедный капитан Комаров! Мы все-таки дожали его в один прекрасный день.
– Ладно, – сказал он, еле сдерживаясь, – черт с вами! Завтра придете с кружкой-ложкой. В 9.00.
– А повестки? – спросили мы.
– Бюрократы! – закричал он. – Какие повестки, когда я вам самим говорю!
Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохрипел оттуда:
– Сами будете заполнять, черт вас дери! Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите!
Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, ни Тбилиси…
– Послушай, – сказал я Юрке, – я побегу домой, а ты принесешь повестку… Как будто я ничего не знаю.
Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал невпопад. Наконец в дверь позвонили, и тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что уж там говорили, какие были восклицания, ссорились, или пели, или Юрку Папинянца выталкивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке.
– Повестка? – сказал я как ни в чем не бывало. – Действительно, пора. Засиделся…
– Этого не может быть! – крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. – Это ошибка. Тебе только семнадцать… Это ошибка. Я сейчас пойду к военкому…
– Нет, – сказал я со страхом, – это не ошибка. Разве вы не видите, что происходит кругом?
– Я в свое время, – сказал дядя Николай, – хотел убежать к индейцам… А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься?
– При чем тут индейцы? – сказал я и сам удивился, как я это сказал.
– Это ошибка, – машинально повторила тетя Сильвия. – Я должна пойти…
– Тетя Сильвия, – сказал я твердо, – не надо идти в военкомат. Я ведь все равно уже решил, вы же это прекрасно понимаете. Сшейте мне лучше вещевой мешок.
Она заплакала. Розовая повестка, покружившись, улеглась на полу».
2
Проблема в том, что стихотворение Окуджавы «Если. то…», подаренное Филиппу Тер-Микаэляну, датировано августом 1942 года и вручено, видимо, именно перед прощанием – перед отправкой на фронт: есть и дарственная надпись – «На память, на счастье, вообще на что угодно дорогому товарищу Филиппу М.». (Как видим, потребность дарить и посвящать собственные тексты была у него уже тогда.) В заявлениях при приеме на работу Окуджава опять-таки везде указывал в качестве даты призыва август 1942-го. Но тогда капитан Кочаров был попросту обязан его призвать, а если и не призывал – то, вероятно, потому, что тетя Сильвия успела позаботиться о его спасении заранее, почему она и повторяет, что «это ошибка». О дальнейшем сам Окуджава рассказывал многажды – и всегда противоречиво; в работе Ольги Розенблюм «Булат Окуджава. Опыт реконструкции биографии (1924–1956)» все эти противоречия подробно отслежены. Получается, что при трудоустройстве он рассказывал одно, в интервью – другое, на концертах – третье, а в автобиографической прозе писал четвертое. Контаминировать из этого целостную картину несложно, но расхождения в деталях остаются. Чтобы не навязывать читателю собственных версий, процитируем интервью Окуджавы Юрию Росту: