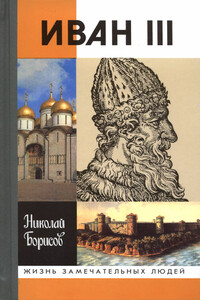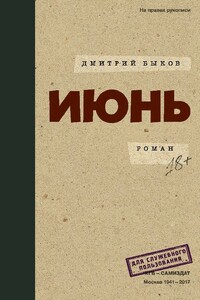Воспоминания Соболева рисуют совершенно иной, непривычный облик Булата: Иосиф Бак вспоминал заводилу, лидера, даже и хулигана, а Соболев рассказывал: «Часто прятался куда-то в уголок, тише воды, ниже травы. На семью-то обрушились репрессии, отца расстреляли, такое даром не проходит. Ездили мы вместе в Сокольники с ружьишком. Снежок выпал, каникулы начались зимние. Наберем лампочек перегорелых от радиоприемников и стреляем по ним. На Собачьей площадке тир был, в который мы вылезали прямо через окошко от Коробкова Юры». Только с Коробковым, Соболевым да еще с Борисом Мартиросовым Окуджава и сошелся в классе. В школе, впрочем, он появлялся все реже и неохотнее, а учился так, что остался в седьмом классе на второй год. Истинная жизнь проходила во дворе.
Надо сказать несколько слов об арбатском дворе – том самом, которому посвящено столько стихов и песен Окуджавы, столько его устных ответов на записки и монологов в интервью. Даже пылким поклонникам Булат Шалвович намозолил глаза своим Арбатом, превращенным с его легкой руки в главный символ Москвы. В конце концов это муссирование арбатской темы бумерангом ударило по самому Окуджаве да и по Арбату: из улицы решили сделать витрину и в начале восьмидесятых превратили ее в пешеходную зону с развесистыми фонарями (тут же пошла гулять острота «Арбат офонарел»). В действительности Окуджава жил на Арбате недолго, в общей сложности десять лет – с 1924-го по 1932-й и с 1938-го по 1940-й; в сознательном возрасте – только эти два с половиной предвоенных года, которые его и сформировали.
Арбатский двор, как и любой московский, не был идиллическим местом. Слово «дворовый» никогда не имело в русском языке положительных коннотаций. Иное дело, что, называя себя «дворянином с арбатского двора», Окуджава имел в виду свой особенный статус – статус гордого люмпена, разоренного, утратившего все и с отчаяния кинувшегося самоутверждаться среди низов. В прочих сферах жизни господствовали иные иерархии, там для успеха требовались ложь и приспособленчество, и только во дворе еще возможно было самоутвердиться за счет подлинной храбрости и безрассудства. Главное же – во дворах не давали в обиду своих. Там соблюдался строгий, хоть и откровенно блатной кодекс чести: «наш» – не трогай. «Чужой» – уноси ноги. Отсюда некоторые – назовем вещи своими именами – неотменимые черты блатного кодекса в интеллигентской, особенно шестидесятнической, морали: отношения «свой – чужой» здесь важнее отношений «правый – неправый». Часто случается слышать от старых диссидентов-лагерников, что блатной закон гуманней и справедливей административного. Когда Юлий Ким написал свою «Блатную диссидентскую» – «Мы с ним пошли на дело неумело», – он не так уж и преувеличивал. «Интеллигенция поет блатные песни», – с осуждением сказано в хрестоматийном стихотворении Евтушенко; да какие ж ей и петь, при ее-то биографии?
«Заметим, что в эпоху, когда народ был подвергнут насильственной маргинализации, а арест и тюрьма стали чуть ли не обязательными элементами существования, – сдержанно пишет Раиса Абельская в уже упоминавшейся статье о блатных корнях окуджавовской песни, – было бы странным, если бы в стихах поэта, столь чуткого ко всякому песенному творчеству, не отразились бы перемены в народном мировосприятии, обусловленные неизбежным в таких случаях „облатнением“ сознания». В некотором смысле Окуджава произвел революцию – дал интеллигенции другие песни вместо блатных; но дворовый кодекс в них сохранился в неприкосновенности, и не зря он – всю жизнь открещиваясь от упреков в приблатненности, прервав концерт, когда его по ошибке в Мюнхене попросили спеть «Гоп со смыком», – написал-таки свой «Гоп со смыком» в 1992 году. Это там были горькие и точные слова: «Слишком много стало сброда, не видать за ним народа, и у нас в подъезде свет погас». И двору – как символу кастовой сплоченности – он оставался верен до конца, написав обо всем своем поющем цехе: «Как наш двор ни обижали – он в классической поре».
Поскольку почти вся интеллигенция (кроме небольшого прикормленного отряда) в советской России была гонима или по крайней мере подозреваема, в ней легко укоренялись вынужденно-приблатненные повадки: априорное недоверие к официозу, «начальникам», гордость от сознания непричастности к ним, презрение к «ссучившимся», продавшимся за пайку; соблазн «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» был знаком немногим и строго осуждался молчаливым большинством. Штука в том, что большая часть этой городской интеллигенции, составившей впоследствии славу русской культуры, воспитывалась именно во дворах, где господствовали отнюдь не ангельские нравы, – но культ двора стал общим местом шестидесятнической мифологии именно потому, что это был последний бастион, противопоставленный официозу. Во дворе правила есть, и даже слишком жесткие; предательство здесь – самый страшный грех. И потому для всех, чьи родители репрессированы, двор становится последней защитой: в школе тычут пальцем – «троцкист», «сын врага народа»! Но во дворе ты остаешься своим, потому что здесь другие идентификации.