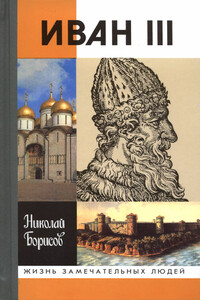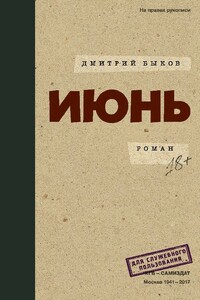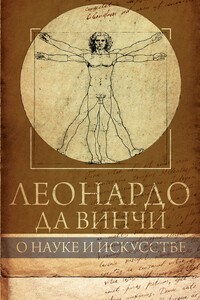Здесь мы прервем воспоминания Михаила Меринова, чтобы вернуться к их кульминационному эпизоду несколько позже. Пока все еще безоблачно: встретили 1936 год, летом Булат снова ездил к тифлисской родне. Там произошла история, о которой он ровно шестьдесят лет спустя написал один из своих «Автобиографических анекдотов», названный «Гений»:
«Это было задолго до войны. Летом. Я жил у тети в Тбилиси. Мне было двенадцать лет. Как почти все в детстве и отрочестве, я пописывал стихи. Каждое стихотворение казалось мне замечательным. Я всякий раз читал вновь написанное дяде и тете. В поэзии они были не слишком сведущи, чтобы не сказать больше. Дядя работал бухгалтером, тетя была просвещенная домохозяйка. Но они очень меня любили и всякий раз, прослушав новое стихотворение, восторженно восклицали: „Гениально!“
Тетя кричала дяде: «Он гений!» Дядя радостно соглашался: «Еще бы, дорогая. Настоящий гений!» И это ведь все в моем присутствии, и у меня кружилась голова.
И вот однажды дядя меня спросил:
– А почему у тебя нет ни одной книги твоих стихов? У Пушкина сколько их было… и у Безыменского… А у тебя ни одной…
Действительно, подумал я, ни одной, но почему? И эта печальная несправедливость так меня возбудила, что я отправился в Союз писателей, на улицу Мачабели.
Стояла чудовищная тягучая жара, в Союзе писателей никого не было, и лишь один самый главный секретарь, на мое счастье, оказался в своем кабинете. Он заехал на минутку за какими-то бумагами, и в этот момент вошел я.
– Здравствуйте, – сказал я.
– О, здравствуйте, здравствуйте, – широко улыбаясь, сказал он. – Вы ко мне?
Я кивнул.
– О, садитесь, пожалуйста, садитесь, я вас слушаю!..
Я не удивился ни его доброжелательной улыбке, ни его восклицаниям и сказал:
– Вы знаете, дело в том, что я пишу стихи…
– О! – прошептал он.
– Мне хочется… я подумал: а почему бы мне не издать сборник стихов? Как у Пушкина или Безыменского…
Он как-то странно посмотрел на меня. Теперь, по прошествии стольких лет, я прекрасно понимаю природу этого взгляда и о чем он подумал, но тогда…
Он стоял не шевелясь, и какая-то странная улыбка кривила его лицо. Потом он слегка помотал головой и воскликнул:
– Книгу?! Вашу?!. О, это замечательно!.. Это было бы прекрасно! – Потом помолчал, улыбка исчезла, и он сказал с грустью: – Но, видите ли, у нас трудности с этим… с бумагой… это самое… у нас кончилась бумага… ее, ну, просто нет… финита…
– А-а-а, – протянул я, не очень-то понимая, – может быть, я посоветуюсь с дядей?
Он проводил меня до дверей.
Дома за обедом я сказал как бы между прочим:
– А я был в Союзе писателей. Они там все очень обрадовались и сказали, что были бы счастливы издать мою книгу… но у них трудности с бумагой… просто ее нет…
– Бездельники, – сказала тетя.
– А сколько же нужно этой бумаги? – по-деловому спросил дядя.
– Не знаю, – сказал я, – я этого не знаю.
– Ну, – сказал он, – килограмма полтора у меня найдется. Ну, может, два…
Я пожал плечами.
На следующий день я побежал в Союз писателей, но там никого не было. И тот, самый главный, секретарь тоже, на его счастье, отсутствовал».
Окуджава здесь никого не называет по именам, однако они легко реконструируются: тетя – Сильвия, дядя – ее новый муж Николай Иванович Попов, бухгалтер из треста, сменивший Вартана Мунтикова («Вартан тоже был добрый и послушный, но глупый, понимаешь?» – объясняла кузина Люлюшка). А секретарь грузинского Союза писателей, к которому Булат прибежал на прием, – руководитель поэтической секции Симон Чиковани, которому Окуджава двадцать шесть лет спустя посвятит стихотворение «Музыка» – «Вот ноты звонкие органа то порознь вступают, то вдвоем.».
Это, пожалуй, единственное его веселое воспоминание о той поездке в Тифлис. В городе ожидали расправ, осенью взяли Михаила Окуджаву, а вскоре и Николая с Владимиром. Вслед за ними арестовали их сестру Ольгу. Эти известия дошли до Нижнего Тагила в ноябре 1936 года – пришла телеграмма, которой Булат не понял: «Коля и Володя уехали к Мише целую Оля».
5
Первый донос на Шалву Окуджаву поступил к секретарю Нижнетагильского обкома Ивану Кабакову от некоего Клековкина, бывшего секретаря парткома Тагилстроя. Бдительный Клековкин неоднократно встречался с Окуджавой на совещаниях, а потом отправился в отпуск в Тифлис, где заведующий культпропом обкома партии Абхазии заявил, что хорошо знает Окуджаву и его брата как оппозиционеров, вожаков антипартийных группировок. Уральский исследователь С. Д. Алексеев упоминает этот факт в книге «37-ой на Урале». Кабаков отлично знал и ценил Окуджаву, но вынужден был «по сигналу» назначить проверку. Он запросил в Тифлисском горкоме ВКП(б) учетную карточку Шалвы Степановича, выписки из протоколов контрольной комиссии – все совпало с тем, что Окуджава указывал в автобиографии. Он ничего не утаил. Серго Орджоникидзе, посещавший Уралвагонзавод в 1933 и 1934 годах, по запросу обкома дал Окуджаве наилучшие рекомендации. Жалоба осталась без последствий. Хотя последствием можно считать и то, что прошлое Шалвы Окуджавы напомнило о себе.