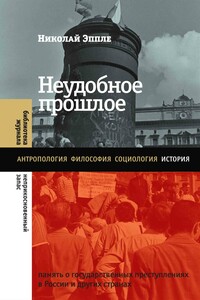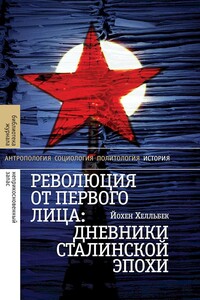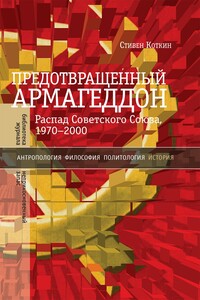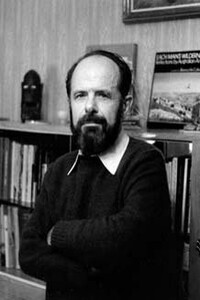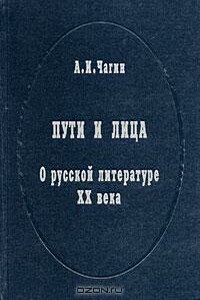Путаница вокруг слова «modern» и распространение множества его производных демонстрируют, как трудно репрезентировать настоящее. Бодлер был меланхоличным и очарованным модернистским художником, который оплакивал исчезнувший «лес соответствий» в мире, но также исследовал креативные потенциалы модернистского опыта. Бодлер, в формулировке Маршалла Бёрмана, был «нечистым модернистом», который не пытался освободить свое искусство от противоречий современной урбанистической жизни[94].
Амбивалентный опыт модерна и ностальгии вдохновлял не только искусство XIX столетия, но и социальную науку и философию. Социология модерна была основана на различии между традиционным сообществом и обществом модерна, различии, которое тяготеет к идеализации целостности, близости и трансцендентности мировоззрения в традиционном обществе. Фердинанд Тённис[95] пишет: «В Gemeinschaft (сообщество) человек живет от рождения в одной семье, привязанный к ней и в радости и в горе. В Gesellschaft (общество) человек входит так, как будто он приезжает в чужую страну»[96]. Таким образом, современное общество выступает как иностранное государство, общественная жизнь — как эмиграция из семейной идиллии, городское существование — как необратимое изгнание. Большинство ностальгирующих социологов модерна тем не менее не являются антимодернистскими, а скорее критикуют последствия модернизации, объективации человеческих отношений через силы капитализма и растущей бюрократизации повседневной жизни[97]. Макс Вебер остановился на трагической амбивалентности современной «рационализации» и бюрократического подчинения индивидуальных и общественных отношений утилитарной этике, которая привела к «разочарованию в мире», потере харизмы и уходу из общественной жизни. Отступление во вновь обретенную религию или заново созданную общинную традицию было не ответом на вызов эпохи модерна, а бегством из нее.
Для Георга Зиммеля[98] определенные силы модернизации угрожали человеческим аспектам модернистского проекта — индивидуальной свободе и творческим социальным отношениям. Его бодлеровская версия ностальгии прочно укоренилась в жизни модернового мегаполиса. Зиммель видит растущее расщепление между объективированными формами обмена и открытой и творческой общительностью, которая одновременно является «игровой формой» и «этической силой» общества. Эта модернистская этика заключается в сохранении неинструментального качества человеческих отношений, непредсказуемой жизни, чувстве существования, способности нести себя через эрос и социальное общение «за порогом нашей временной ограниченной жизни»[99]. Зиммель ностальгирует по исчезающим в эпоху модерна потенциалам героических приключений в поисках свободы. Его эротическая социология нуждается в художественной, а не институциональной или экономической концепции современных социальных отношений.
Объект ностальгии может варьироваться: традиционная община у Тённиса, «первобытный коммунизм» дофеодального общества у Маркса, заколдованная общественная жизнь у Вебера, творческая коммуникабельность у Георга Зиммеля или «интегрированная цивилизация древности» у раннего Дьёрдя Лукача. Лукач придумал термин современной «трансцендентальной бездомности» и определил его посредством развития искусства, а также общественной жизни. «Теория романа» Лукача (1916) открывается элегией эпических масштабов: «Блаженны времена, для которых звездное небо становится картой дорог — и торных, и еще не проторенных, — дорог, освещенных светом этих звезд. Все и ново для них — и знакомо до боли, все и причудливо — и обычно. Как ни обширен мир, он похож на наш собственный дом, ибо огонь, горящий в душе, — того же свойства, что и звезды»[100]. Это уже ностальгия не по локальному дому, а по тому, чтобы быть как дома в целом мире, стремясь к «трансцендентальной топографии сознания», которая характеризовала, предположительно, «интегрированную» древнюю цивилизацию. Объектом ностальгии у Лукача является тотальность бытия, безнадежно фрагментированного в современную эпоху. Роман, современный заменитель античного эпоса, представляет собой своего рода «полуискусство», которое стало отражать «дурную бесконечность» модернистского мира и потерю трансцендентного дома. Лукач перешел от эстетики к политике, двигаясь от гегельянства к марксизму и сталинизму, теряясь в многообразии тоталитарных утопий XX века, оставаясь верным только ностальгии по тотальному миропониманию, рано проявившемуся в его работах.