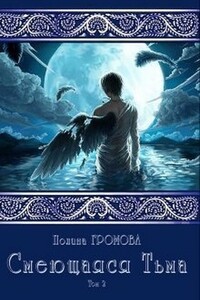К полудню перед воротами крепости стояла на коленях вся семья Недобоя. Ворота были раскрыты, но люди не решились войти. Бухнулись на талую землю, едва ступив в зеленец. Сам Недобой, в одночасье осунувшийся и постаревший. Пережитая ночь, несомненно, подбавила острожанину в бороду седых волос. Старший сын, беспомощный и свирепый, сжимал кулаки, как мог обходил взглядом молодую жену. Та молча раскачивалась, опухнув от слёз. Вот это было горе так горе, света невзвидеть, куда там её прежним кручинам. Впереди всех клонил белую голову старенький отец Недобоя. Бабка с матерью обнимали Лутошку, зачем-то связанного — и так избитого, что еле раскрывались глаза.
Они стояли как раз под деревом Ивеня.
— Добили Недобоя, — пробормотал Ознобиша.
Младшие ученики смотрели вниз, сгрудившись на стене.
— Парня теперь, знамо дело… — Хотён завёл руки за спину, согнулся, высунул язык.
Пороша тоже согнулся, стал хохотать, хлопая себя по бёдрам.
Ознобиша сглотнул, замолчал, отвёл взгляд.
— А двор небось на шарап! — У Пороши загорелись глаза, он ещё ни разу не видел, как отдают на разграбление двор, тем более не участвовал.
— Нас-то всё равно близко не пустят, — шмыгнул носом Шагала.
Он был деревенским сиротой и не отказался бы порыться в нарядных красивых вещах, которые в руках даже никогда не держал.
— Вешать не за что, — рассудил Воробыш. — Он же не отступник.
Пороша заспорил, отстаивая казнь:
— Он сына Мораны убить хотел. Значит, вроде как на Неё посягнул.
— Так не убил же? Лихарь ещё, может, встанет…
Ребята примолкли, раздумывая, кому чего бы хотелось. На Великий Погреб Лихаря проводить — или здравствовать ему, вставшему? Ветра они трепетали… и, пожалуй, любили. Лихаря — просто боялись.
Ощутимая возможность перемен притягивала и пугала.
Воробыш нечаянно выразил общую мысль:
— А кого, если вдруг, учитель новым стенем к себе…
— Белозуба, — предположил Хотён.
— Да ну! Одноглазого?
— И опалённый он, за стол последним садится.
— Тогда Беримёда.
Тут сморщился даже Пороша.
— Сквару, — хихикнул Шагала.
Пороша замахнулся дать подзатыльник.
Несчастные острожане маялись возле страшного дерева, не смея ни приблизиться к воротам, ни податься прочь. Что станут делать, если до ночи никто к ним так и не выйдёт? А колени занемеют или, паче того, нужда телесная подопрёт?
— Поясок бы цветной, — размечтался Шагала. — Ложечку костяную…
— А что не серебряную?
— Да серебряную кто ж даст…
— Ознобиша! Ты все законы на умах держишь, скажи!
Подстёгин сын зябко поёжился, втянул руки в рукава:
— Законы-то есть…
Андархская Правда напоминала ковёр, ткавшийся немало веков. Люди, вязавшие на том ковре узелки, видели всякое. Они давно вывели, какая вира надлежала за удар кулаком или за тычок ножнами, из которых не достали меча. Они в точности определили, сколько плетей заслуживал пойманный тать и что делать с насильником, прилюдно опростоволосившим бабу. И главное, какая продажа полагалась от судебного действа городскому державцу.
Одна беда: ни в каком законе даже словом не говорилось о мораничах. Кем в глазах андархской Правды был стень? Если благочестным жрецом, Недобоеву сыну могло выйти битьё кнутом без пощады. А если считать Лихаря воином, кабы самому не начали пенять и смеяться: от подлого мальчишки оборонить себя оплошал!
И выходил праведный закон вроде дышла. И поворачивать его волен был Ветер, державший расправу в Пятери и ближних к ней деревнях. Так-то.
А Ветер как затворился с больным Лихарем, так и не казался наружу.
Лёгок на помине, подошёл Беримёд.
— Дикомыта не вижу! — рявкнул он, оглядев притихшую стайку. — Где шляется, безделюга?