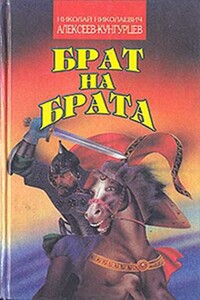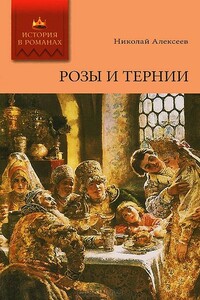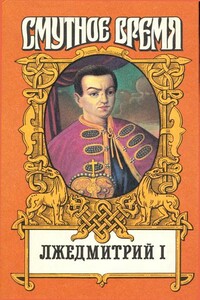Между боярином и холопом существовали почти приятельские отношения. И холоп, и боярин равно любили делиться своими думами друг с другом.
Что Семен был сегодня не в духе, это было заметно и по сумрачному выражению лица его, и по молчаливости, с какою он помогал господину одеваться. В ответ на вопрос Луки Филипповича махнул рукой и ворчливо ответил:
— С чего и веселым-то быть? Куда ни глянешь — грехи одни.
— Все мы в грехах, что говорить!
А особливо то за сердце берет, что ходит грех под личиной праведной. Намедни тут я слыхал… Али, может, тебе, боярин, холопа слушать не любо?
— Послушаем, послушаем. Рассказывай!
— Намедни тут я слышал, — продолжал Семен, смахивая пушинки, приставшие к одежде, которую сейчас надлежало подать боярину, — такую побывальщину. Жил-был не то купец богатый, а, верней, боярин один, старый уж… Ну, и приглянись ему одна девица красная, сирота круглая. Он не долго раздумывал и взял ее за себя. Живут, это, они — муж старый с женой молодой — год-другой припеваючи. Она его ласкает-милует, он на нее не надышится. А был у него холоп старый, верный. Ну, кое-что и заприметил он за молодой боярынькой. И вот, так же, как словно и мы с тобой теперь, завел он беседу да и выложил все: так и так, мол, женка твоя балуется. Только ты из дому либо спать завалишься — глядь, идет к ней молодчик черноусый. Боярин, вестимо, сперва на дыбы, чуть холопа не побил, а тот и говорит: «верь- не верь, а только я тебе их вместе, коли хочешь, покажу».
Семен неожиданно примолк. Лука Филиппович, с лица которого давно сбежало веселое выражение, тяжело дышал.
— Ну, а потом? — угрюмо спросил он.
— Вестимо, холопья правда вышла: накрыли молодую жену с полюбовником. Вот такие дела бывают на свете. С чего тут веселым быть? Везде грех один. Сбитенек сюда подать прикажешь?
— Постой! Скажи ты мне вот что, — медленно молвил Лука Филиппович, — неспроста ты мне эту побывалыцинку рассказал?
Семен вдруг побледнел и кинулся в ноги боярину.
Хоть серчай на меня, хоть нет — балуется боярыня Анна Григорьевна! — Сказал он.
— С кем? — упавшим голосом спросил Лука Филиппович.
— С Тихоном Степановичем. Сдается мне, для того он теперь и в Углич прибыл, чтоб с нею не расстаться.
Стрешнев схватился руками за голову и несколько минут простоял так; потом прошелся по спальне.
— Может, тебе показалось?
Семен отрицательно покачал головой.
— Давно я начал примечать, что неладное что-то завелось. Больно часто стал Тихон Степанович подле усадьбы похаживать и все в ту пору, когда ты либо почиваешь, либо тебя дома нет. И потом эта Марфа…
— Какая Марфа?
— Когда?
— Вчера. Сам своими ушами слышал, как Анна Григорьевна наказывала ей: «Скажи Тихону, чтоб, завтря в послеобеденную пору пришел, знаешь, туда, к огороду… Ждать буду… Скажи, тоскуется мне страсть, что он вчера и сегодня не был»
— Семен! Да знаешь ли ты, знаешь ли ты, — задыхаясь крикнул боярин, тряся холопа за плечи, — что ты меня в гроб укладываешь?
Тот беспомощно развел руками.
— Видит Бог, боярин, не хотел тебя я огорчать — затаю, дескать, про себя, а только не смог я… Потому сердце в груди повернулось, как подумал я, что они за твоей спиной будут целоваться-миловаться и над тобой посмеиваться.
— Я тебя не виню — ты правду сказал… — заговорил Лука Филиппович, зашагав по спальне. — спасибо тебе… Ох! Спасибо! Послушай, ты, может, ослышался?
Он рад был ухватиться и за соломинку.
— Нет, боярин.
— Я знаю, ты изрядно туг на уши… Ты ослышался, ослышался! Быть этого не может!
— Да нет же… Гм… Не знаю, может, конечно… — бормотал Семен.
— Ага! И сам говоришь! То-то! Не может быть, чтоб Аннушка… Ах, Боже мой, Боже!
Бедный Лука Филиппович просто терял голову.
— Ты зря не убивайся, боярин. Может, я и впрямь ослышался. Вот обождем до после обеда: не увидим их на огороде, ну, стало быть, и горевать нечего…
— Да, да!.. Конечно… Да и не увидим наверно… Обождем, обождем… Пойти сбитенька испить…
И Стрешнев поспешно вышел из спальни. Он старался пересилить себя, старался заглушить призрачной надеждой того червяка, который грыз ему сердце.
Жена встретила его поцелуем. Он ответил ей тем же и заглянул в глаза. Красивые глазки Анны Григорьевны казались такими детски-веселыми, светлыми, что старый муж невольно подумал: