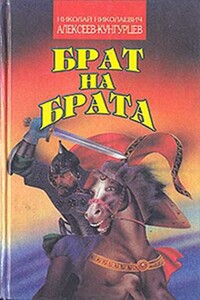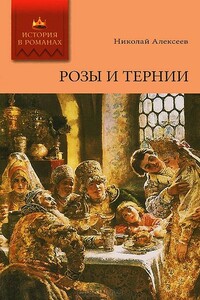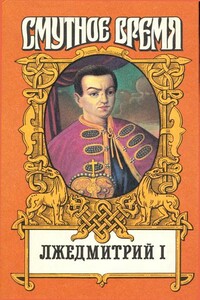дуб.
Лицо Луки Филипповича сразу прояснилось.
— Ласточка моя! Да за что мне на тебя сердиться?
— Может, что сделала али вымолвила не по нраву?.. Коли так, прости меня, глупую!
— Полно тебе!.. Ишь, и слезки в глазах… Ай-ай! и совсем-то ты еще девочка, а не бабенка замужняя… Ну, можно ль так! Ах, ты, золоташка! — говорил Стрешнев, целуя жену. — Вот, все мне говорили, — продолжал он, — смотри, Лука Филиппович, не дело ты это затеял жениться на старости лет на молоденькой — беду себе готовишь. Вот те и беду! Чай, и молодых мужей так не любят, как меня женка. Ведь любишь?
— Ну, вестимо ж люблю! Как спрашивать не грех, — ответила боярыня и обняла старика, и прижалась розовой щечкой к его морщинистой щеке.
Она не лгала — по-своему он любила мужа, что не мешало ей с легким сердцем изменять ему. Он был стар и сед, а тот, Тихон Степанович, был такой молодой, веселый… Соблазн велик. Первый шаг был труден, а раз он совершился — жалеть было поздно, надо было пользоваться тем, что куплено грехом. И она не жалела, и пользовалась, и не считала себя хуже других. Муж в ней души не чаял, и она вертела им, как хотела, Тихон Степанович обожал — чего она могла еще желать? Она была довольна и счастлива. Правда, где-то там, в глубине души, шевелился иногда беспокойный червячок опасенья: а что, если узнает муж? Но она спешила успокаивать себя: как ему узнать? Кто из слуг знает, тот надежен и закуплен — им же прибыльнее, коли боярин ничего знать не будет… Не проведать ему!
Беспокойство пробуждалось в ней тогда, когда она видела мужа сумрачным. Поэтому она всегда старалась выведать причину его дурного расположения духа. Сегодня она не йа шутку встревожилась, увидя Луку Филипповича что-то слишком угрюмым и, как показалось ей, холодным с нею. Поласкавшись достаточно с мужем, боярыня промолвила:
— Ай, да и хитер же ты, муженек милый!
— Я? С чего взяла?
— Да как же! Стал ласкать, целовать — глаза мне отвел.
— Вот на!
— Я его спрашивала, почему он со мной словцом не перекинулся, а он молчок.
— Глупышка! Да как же я скажу с чего, коли просто ненароком вышло?
— А с чего грустен так?
— Невзгода пришла на старости лет.
— Какая?
— Подниматься надо со своего родного гнезда, ехать в чужие места.
— Да что ты!
— В опалу впал, с чего — не знаю. Борис Федорович на меня озлобился что-то, и царь прогневался. Приказывают мне из Москвы в Углич отъехать.
— В Углич! Ах, Боже мой!
— Да… Якобы к царевичу Дмитрию для оберегания.
— Ах, Боже мой! Боже мой! — бормотала Анна Григорьевна. Она до того взволновалась, что побледнела.
— Трудненько будет привыкать на новых местах.
— И скоро тронуться надо?
— Да, седьмицы через две… К вешнему Миколе там быть приказано.
— Батюшки! Пока сберемся, пока доедем…
— Выходит, что нам всего несколько дней в родном доме провести придется… Ох, грехи, грехи! Пойду сосну, что ли, напоследок. И ты прилегла бы…
— Нет, мне не до сна.
— Ты не больно к сердцу принимай!
— Как не принимать этакое!
— Что делать! Авось, и там жить будем не хуже.
Он поцеловал жену и вышел из комнаты.
— Марфуша! — крикнула боярыня холопку, едва муж вышел.
Молодая, шустрая бабенка прибежала на зов.
— Что прикажешь?
— Беги сейчас к Тихону Степановичу… Смотри только, чтоб кто не заприметил.
— Не впервой, боярыня!
— Скажи, чтоб он немедля шел сюда — жду его: о деле важном потолковать надо. Да чтоб не входил в дом, потому Лука Филиппович здесь — не забудь сего примолвить — а подъезжал бы напрямик к саду, к той стороне, что на поле выходит… Я уж поджидать буду. Упомнишь! А коли спросит кто, куда бежишь?
— Скажу, в деревню боярыня отпустила кума повидать.
— Ну ладно, иди с Богом!
Через несколько минут Марфуша степенно выходила из ворот. Правда, когда она отошла от усадьбы на сотню-Другую сажень, степенность ее покинула и она принялась так шагать, что только сверкали ее босые пятки, но никто этого не заметил.