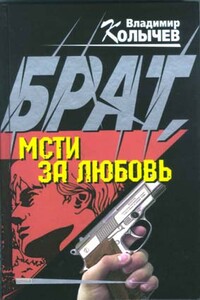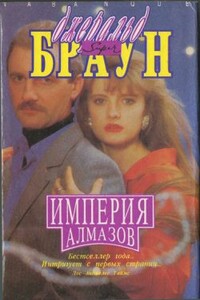В девяносто третьем году он вернулся из армии. И по стечению обстоятельств попал в криминальную группировку. Рядовым бойцом. Только за первый месяц он два раза побывал в ментовке. Тогда его пытали точно так же, кололи на признание. Но он все выдержал. Потому что он прежде всего мужчина, боец и телом и духом.
И сейчас он все выдержит. Не смогут сломать его менты. Не по зубам им Никита Брат.
— Значит, не хочешь признаваться. Ну ладно…
Наручники с ног сняли. Тело вернули в нормальное положение. И тут же руку скрепили наручниками с левой ногой. С правой сняли туфлю, носок. И началось…
— Что вы делаете, гады?..
Очень болезненный удар по пятке перевел последнее слово в протяжный стон.
А удары сыпались один за одним. Дубинкой по пяткам. Древнейшее средство пыток. И в застенках гестапо его применяли. Теперь вот менты на вооружение взяли. Фашисты проклятые!..
Боль превысила порог терпения. Никита не сдался. И будто в награду за это он потерял сознание.
Очнулся все в том же кабинете. Сидя на табуретке. Руки прикованы к батарее. И обе ноги тоже скованы наручниками. Голая распухшая ступня на полу. Мышцы жутко болят, суставы ломит. И глаза мозолят ухмыляющиеся физиономии ментов.
— А ты крепкий орешек, Никита Брат, — вроде как с осуждением покачал головой коренастый.
— Но ничего, и не таких ломали, — пробасил высокий. — В «слоника» поиграем?
На этот раз они надели ему на голову противогаз. И пережали шланг.
Никита начал задыхаться. От внутреннего напряжения, казалось, лопнет голова…
Семь лет назад его пытали точно так же. Два капитана. Светлов и Вершинин. Борцы с организованной преступностью. И пакет на голову ему надевали, и противогаз. Но Никита все выдержал. Не сдал своих дружков. За что и поплатился. Менты подставили его под удар. Братки обвинили его в предательстве. С большим трудом он сумел перед ними оправдаться.
В конце концов он вышел из банды. Через горы трупов лежал его путь к свободе. Не хотели братки отпускать его.
Но он стал свободным человеком. И даже сдружился с теми же Светловым и Вершининым. В дальнейшем они совершили вместе немало славных дел.
Только вот с этими типами Никита никаких общих дел иметь не будет. Потому что не бандита они сейчас пытают, а законопослушного гражданина. Они выполняют чей-то заказ. Узнать бы чей?..
У Никиты чуть глаза на лоб не вылезли, сосуды в голове едва не полопались. Он умирал. Но палачи не позволили ему даже сознание потерять. В самый последний момент они отпустили шланг. Воздух хлынул в легкие. Но Никита радости не испытал. Он знал, это только начало…
— Признаваться будем? — спросил коренастый.
— Нет, — замычал он.
И снова подлая рука пережала шланг.
Никита умирал и снова оживал. Иногда на короткое время терял сознание. Ему приходилось тяжко, не было сил терпеть пытки, хотелось выть от ужаса перед очередным истязанием. А его палачи только смеялись. И участливо спрашивали, не желает ли он чистосердечно признаться в содеянном преступлении.
Он не соглашался. И каждый раз качал головой. Менты уже не улыбались. Глаза коренастого наливались кровью от бешенства.
— Ну что, гад, бумагу писать будем? — сдирая с него маску, орал он. — В последний раз спрашиваю, бумагу писать будем?..
Никита замотал головой. У него уже не оставалось сил, чтобы говорить.
— Ну ты меня достал! — сквозь зубы процедил мент. И с силой ударил его кулаком по лицу. Один раз, второй. Никита не мог оказать ему сопротивление. Руки пристегнуты к трубе батареи, ноги стянуты наручниками…
А мент продолжал с остервенением бить его. Мощные удары сотрясали голову, где-то внутри что-то хрустнуло. Губы всмятку, носом хлынула кровь, все лицо покрылось кровавыми ссадинами и шишками.
Сначала было больно. Затем боль притупилась. Л коренастый все бил и бил.
Остановился он, когда Никита потерял сознание.
Его окатили холодной водой, Никита пришел в себя. Но глаз не открывал. И слышал, как переговариваются меж собой менты.
— Идиот ты, Саша, идиот… Зачем ты морду ему разбил? Теперь знаешь, сколько шуму будет?
— Будь спок, у меня на этот счет все готово!
— Точно?
— Обижаешь… Я сейчас этому козлу помойному еще и ливер отобью… Не расколется, на себя пусть пеняет… Эй, а ну давай, поднимайся, мурло!..