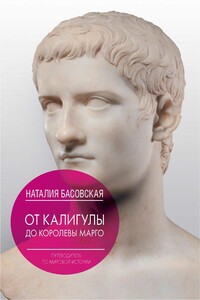— Выходит, Горбачев продолжил линию Андропова?
— Не просто продолжил — он начал новое дело. Он хорошо понимал, чего от него ждут, и, как он потом говорил (а в этом есть доля истины) — ему не только власть нужна. И что он останется у власти, только если будет реформатором. Он понимал — этого от него ждет страна. Ждали все. Вокруг него собралась небольшая группа людей — таких как Яковлев, Шеварднадзе. И в более низком эшелоне — еще целый ряд людей. Я тоже был среди них, видимо… Хотя официально я никакого положения в руководстве не занимал — никогда: впервые какое-то положение занял при Ельцине — стал членом Консультативного совета. Хотя и это, в общем-то, просто почетная работа — не оплачиваемая, не штатная.
Тут мы с Баскиным недоверчиво покосились на собеседника.
— И как же был обозначен ваш статус?
— Совет должен был работать не только на руководство — но на общество в целом: выпускать книги, журналы…
Ответа как-то не получилось. Но мы не стали на нем настаивать, полагая, что в контексте нашей беседы будет еще случай вспомнить об этом.
— Я бы хотел вернуться к Андропову. Вы заговорили о том, что он думал о переменах в отношении к интеллигенции. У него были какие-то конкретные идеи?
— Знаете, в общем, он сам был человеком гораздо более интеллигентным, чем окружавшие его люди. И даже в какойто мере это скрывал: в нашем руководстве такое еще от Сталина осталось. Я даже думаю, что и Хрущев скрывал. Вот и Андропов… По поводу интеллигенции у меня был с ним очень серьезный конфликт. В моей книге Андропову посвящена глава, и там есть об этом: я обратился к нему с письмом, где просил о встрече, говорил, что снова начинается зажим.
Это было через месяц после того, как он стал генеральным секретарем. Я писал, что есть проблема с театром Любимова, что проблема с «Борисом Годуновым» в театре Гончарова, что у Плучека в Театре сатиры запретили «Самоубийцу» Эрдмана. И что в экономической науке происходит попытка повернуть страну вспять — причем именно из ЦК спускается политэкономия. И вот все это вызвало у него большой гнев.
В тот же день я получил обратно свое письмо и его весьма разгневанную записку. Отчасти я это отношу к тому, что, может быть, я сам был кое-где в этом письме нетактичен… Но я ему писал искренне. Естественно, он знал: я ему часто говорю то, что искренне думаю, а мои мысли могут не соответствовать его представлениям. И он это как-то терпел. А тут вот такая его записка — нетерпимая.
Месяцев через пять или шесть после этого конфликта Горбачев нас мирил. Потом Андропов сам пригласил меня и сказал примерно следующее: с интеллигенцией у нас явно не складываются отношения — думаю какую-нибудь серьезную вещь сделать, но что именно? Может, пленум специальный собрать? Все у нас делалось в аппарате ЦК, остальные были фасадными организациями — они лишь подтверждали решения ЦК.
Так вот, Андропов говорит: можешь написать свои соображения самым свободным образом. Потом я узнал от Бовина, что и ему он поручил создать такую же бумагу — по национальным вопросам. Что-то он, видимо, готовил. А недели через три после этого заболел, и все угасло. Я, правда, не думаю, что Андропов пошел бы очень далеко — дальше, скажем, Горбачева. И все-таки у него в какой-то мере был этот запал — хотя, в общем, как все, пережившие сталинизм, Андропов был политически, морально сломлен, надорван. Но разница между ними была большая — между разными представителями этого поколения. И эта разница могла означать очень многое для всех нас — и в политике, и во всем остальном. А Горбачев не был отягощен этими переживаниями, таких травм, как у Андропова, у него не было.
— Значит, Андропова волновала проблема нравственности? И это — после сыгранной им роли в венгерских событиях?
— Да, был у него определенный комплекс, родившийся после Венгрии. Он, может быть, оправдывал перед собой подавление восстания тем, что если бы этого не было сделано, потом все стоило бы большей крови. Я не хочу здесь высказывать свое мнение — правильно это или нет, но это для самого себя, может быть, именно в этом он видел оправдание. Причем, самой активной фигурой он не был: насколько мне удалось восстановить события, а я пытался это делать, там давили другие. Брежнев был нерешителен. Осторожный он был человек, этих вещей боялся.