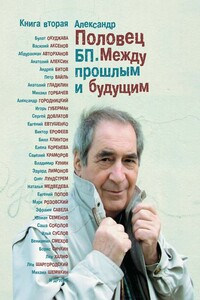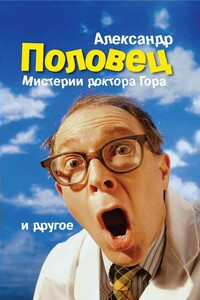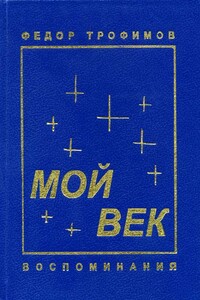— Тебе не противно? — Игорь брезгливо косился на остатки бутерброда.
— Противно что?
— Да вот это! Что это? — он показал на остатки моего ланча.
— Как, что — еда: хлеб с колбасой…
— Вот-вот — с колбасой!
— Не понял, — отвечаю, — колбаса телячья, из русского магазина, свежая. Всё нормально.
— Именно — телячья. Это же плоть убитого животного… Убили ребёнка у коровы, не дали ему вырасти. А ты знаешь, — укоризненно продолжал Игорь, — что в мясе убитого животного сохраняется ужас смерти? Оно же знало, что сейчас умрет! Убили теленка, а ты ешь его…
Вот так мыслил Игорь. К этой теме мы больше не возвращались, хотя виделись довольно регулярно.
Вегеританцем я не стал — люблю рыбу, креветки, моллюсков всяких при случае поглощаю с удовольствием, пью молоко, ем куриные яйца. А мяса — не ем, не хочется. Ну это так, к слову.
Так… В тот раз, или в другой, когда говорили мы с Димон-том совсем о другом, но вот после этого разговора родились строки, которыми я открывал заметки об Алиде Круминой, художнице. После их публикции у меня дома появилась одна из ее удивительных картин.
Приведу же начало этих заметок, кажется, оно здесь к месту.
Итак:
«…Когда город спит, когда он ест, смотрит телевизор, когда он пьет, обсуждает, соблазняет и мечтает, когда город строит планы на следующий день, и когда город спит… есть еще какой-то небольшой невидимый никому мир. Этот мир обособлен и непричастен к суете города.
Это — мир творцов, особых людей среди нас, как бы иронически или несерьезно мы порой к ним не относились. Пианист, не имея зала, не имея слушателя, часами остается у фортепиано, композитор исписывает тонны бумаги, зная в своем сердце, что никакой оркестр никогда не исполнит его музыку. Художник подолгу просиживает за мольбертом и не тратит время на мечты о том, что кто-то его оценит, кто-то восхитится его образами, кто-то поймет и озолотит его. Эти люди творят, не расчитывая на будущие доходы, не думая о своих будущих успехах или неуспехах, не ожидая компенсации или высокого места в обществе.
Творить для них — внутренняя потребность. Это их способ жить, выражать себя, «строить мосты» к другим людям. Сопротивляемость обстоятельствам у них высокая… общество может их не признавать, они творят, не ожидая аплодисментов ни сегодня, ни завтра… никогда».
Продолжив эту мысль сегодня, добавлю и следующее: всегда жила русская литература потайная, скрытая, недоступная. Рукописи передавались надежными друзьями, от одного — другому. Ни официальной издательской редактуры, ни цензуры…
Саша Соколов, Бродский, Цветков, Лимонов… В том же ряду оказались и Аксенов, и Алешковский, и Копелев — все они оставили страну, при разных обстоятельствах, но причина всё же была одна. Теперь — это история. «Не приведи, Господь, — слышу я сегодня, бывая там, — чтобы она вернулась…»
А сейчас — о том, что сохранилось в записях, в публикациях — я попытаюсь выбрать из них «самое-самое». Начать надо бы вот с чего…
Так и жила эта литература в подполье многие годы, но вот томики с эмблемой старинного экипажа, маркой «Ардиса» заняли место в тамиздатовской библиографии — рядом с изданиями «Посева», «Граней», «Имки-пресс». Вот я достаю Набоковские — из него у меня сохранилась почти вся серия — от «Подвига», датированного 1974-м годом, (это прямой репринт с парижского издания 32-го года, там сохраняются все «ъ») — здесь еще нет «экипажика», появится он в 79-м на томиках «Стихи», «Король, дама, валет», изданнные в 78-м «Весна в Фиальте» и «Другие берега» его не содержат.
Издания «Ардиса» стали знать в России. Даже и при том, что на книжных полках они могли оказаться лишь в спецхранах, оставаясь доступными лишь тамошним литературоведам.
И вот ночами застрочили по всему советскому пространству пишущие машинки, страница за страницей перепечатывались с этих томиков дневники вдовы Мандельштама, записки Анатолия Марченко, просочившиеся на волю сквозь тюремные стены, — там, в заключении, их автор и закончил свою земную жизнь. А книга его осталась.
С той же целью изводились тысячи и тысячи листов фотобумаги в домашних лабораториях. И не только в домашних — я уже вспоминал в связи с моим старинным приятелем журналистом Жаворонковым лабораторию в Институте мединформации. Генка, тогда в числе еще нескольких беззаветно доверявших друг другу приятелей, доставал и доставлял сюда «исходный материал» для последующего копирования. Нам с ним тогда обошлось, а кому-то — нет…