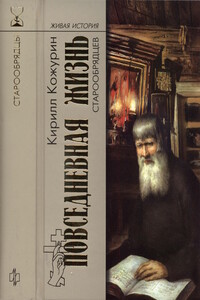К сожалению, у нас нет точной статистики относительно численности русского старообрядчества, то есть тех, кто активно не принял никоновских реформ. Да и вряд ли такая статистика возможна. Но чтобы хотя бы отчасти составить себе представление о масштабе произошедшей в XVII веке катастрофы, приведем некоторые данные. Известно, что к началу XVIII века, когда при Петре I проводили перепись населения, оказалось, что только в бегах находилось порядка 900 тысяч человек! На начало XX века историки насчитывали от 15 до 20 миллионов старообрядцев на территории Российской империи[235]. Опираясь на анализ официальной статистики и секретных обследований 1852 года, историк С. А. Зеньковский говорит, что «в XIX и начале XX в. от 20 до 30 процентов всех великороссов было идеологически и религиозно ближе к расколу, чем к синодальной версии русского православия»[236]. Многие современные ученые склоняются к этой цифре. Что касается статистики репрессий, то далеко не полную картину дают нам многочисленные старообрядческие синодики, где перечисляются десятки тысяч сожженных за веру, «Виноград Российский» Симеона Денисова, его же «История об отцах и страдальцах соловецких» и «История о сибирских страдальцах». В одном только Палеостровском монастыре было сожжено сначала 2500, а затем еще 1800 человек за один раз!
Невольно возникает вопрос: а возможно ли объяснить столь беспрецедентное сопротивление как минимум трети русских людей церковной реформе Никона исключительно «религиозным фанатизмом» и «невежеством», выросшим на почве «обрядоверия», как это пытались представить сначала синодальные, а затем и некоторые советские историки? Безусловно, нет.
Как писал известный церковный историк профессор А. П. Лебедев, «причина раскола лежит гораздо глубже, — она касается самого существа Церкви и основ церковного устройства и управления. Различие в обрядах само по себе не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое всевластие. «Ничто же тако раскол творит в церквах, якоже любоначалие во властех», — писал… протопоп Аввакум в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу. И вот это-то любоначалие, угнетающее Церковь, попирающее церковную свободу, извращающее самое понятие о Церкви (церковь — это я), и вызвало в русской церкви раскол как протест против иерархического произвола. Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; и на ревнителей этих обрядов, не покорявшихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая»[237].
Несмотря на всю важность обрядов и священных текстов, вообще религиозной символики для людей того времени, речь здесь все-таки шла не о простом изменении обрядов и богослужебных текстов, а об изменении всей жизни, характера и духа народа, о подчинении чуждой, навязываемой сверху воле, что через некоторое время стало совершенно очевидным. И пусть бессознательно, но русский православный народ почувствовал это.
Французский исследователь творчества Аввакума Пьер Паскаль так пишет о произошедшем в русском обществе расколе и о его причинах: «Теперь уже дело касалось не только того, как следовало писать и читать имя Исус, с одним или с двумя «и», следует ли сугубить аллилуию или петь ее трижды, знаменовать себя крестным знамением двумя или тремя перстами. Эти вопросы, вызывавшие разделение верующих, конечно, сохраняли свою важность. Но в московском обществе совершилось и другое, новое разделение, уже делавшее первое бесповоротным. Правящие круги, столкнувшиеся с иноземной цивилизацией, были готовы оставить прежнее мировоззрение, полное героизма и аскетических устремлений, оставить монашеское христианство, бывшее дотоле традиционным в Московии. Оставив его, они были готовы перейти к другому миропониманию, еще пока плохо определившемуся, но как будто открывающему широкие возможности и для культа материальной стороны жизни. Рождались новые потребности. Стремление к возможным рискованным начинаниям и к наживе овладело всеми общественными классами. Царские люди, военные, судьи, даже священнослужители — все хотели торговать. Царь тоже увлекался торговлей. Иноземцы были прямо поражены этой жаждой наживы. Аввакум отдавал себе ясный отчет в происходящих изменениях. Ведь всем этим затрагивалась сама религия!»