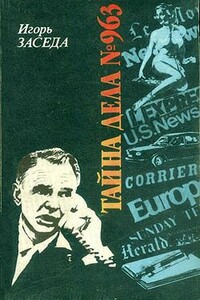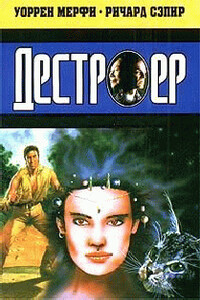Не мешкая, я собрался, без сожаления выключил первую программу местного телевидения - местной ее можно было назвать лишь с большой натяжкой, потому что вот уже несколько лет отдана она ретранслируемой по спутнику связи программе Эн-Би-Си из США. Она идет на английском языке практически круглые сутки, и многие японцы начинают и заканчивают день под гортанную американскую речь, передающую последние известия, в том числе из Японии, нередко опережая хозяев.
"Дай-ичи" - отель, давший мне приют на эти трое суток, с раннего утра был по-праздничному освещен и полон жизни - уже открылись дорогие фирменные магазинчики в вестибюле, толпы стареющих американок и американцев, дымя сигарами и трубками, распуская шлейфы из дорогих духов и громко разговаривая, заполонили зимний сад и просторный холл на втором этаже. На удивление - в ресторане оказалось довольно малолюдно.
Я поставил на поднос блюдечко с двумя крутыми яйцами, на другое бросил несколько ломтей ветчины и тонко нарезанного желтого, как сливочное масло, сыра, налил бокал апельсинового сока, положил столовые приборы. Немного задержался у шведского стола, окидывая взглядом зал и выбирая место. Столик у окна, покрытый накрахмаленной, хрустящей темно-бордовой скатертью и украшенный крошечным, но совершенным по форме букетиком неярких цветов, показался мне самым привлекательным.
Быстро - эта пагубная привычка сохранилась со времен спорта, и мне так и не удалось избавиться от нее и в более поздние времена - поел, сходил к столу, чтобы налить из тяжелого стального цвета металлического термоса парующий ароматный кофе, и вышел из ресторана.
Не дожидаясь лифта, сбежал вниз - "и ветер дальних странствий дохнул ему в лицо".
Я вышел на Гинзу где-то в центре, почти возле круглого здания - башни фирмы "Мицубиси", минуту размышлял, в какую сторону двинуться, решил влево и побрел походкой туриста, привыкшего крутить головой, чтоб, не приведи господи, не пропустить что-нибудь стоящее. Дошел до знакомого моста городской железной дороги, пересекавшего Гинзу, - он был уже и тогда, в 1964-м. То ли память мне изменила, то ли тут так все изменилось, но я не узнавал знакомых мест, где бывал и днем, и поздней ночью, - мы ходили глазеть на колдунов и гадальщиков. Освещенные колеблющимися огоньками высоких свечей, они устраивались на мрачной, облезлой и грязной улочке с домами без окон. Молодые и старые, мужчины и женщины, одетые кто во что горазд - от кимоно музейной ценности до обшарпанных бумажных рубах и мятых, давно потерявших цвет штанов, - они сидели вдоль стен, как изваяния - молчаливые и неподвижные. И лица сплошь разные: от иных глаз не оторвать - изможденные, с какими-то черными знаками-полосами на щеках, с лихорадочно горящими, нет, светящимися, как у сов, глазами, точно заглядывающими к вам в душу и перебирающими, наподобие скупого рыцаря, ее нетленные богатства. Лишь губы, точно жившие отдельной жизнью от лиц, что-то шептали, смоктали и присмактывали. И клиенты - все больше бедный, трудовой люд с усталыми, поникшими фигурами и угасшими глазами - подпадали под этот дьявольский взгляд и цепенели, внимая беззвучно словам, что срывались с едва заметно движущихся уст. Это было поистине потустороннее пиршество, заставлявшее человека забывать, что тут, рядышком, в какой-нибудь сотне метров, гремела автомобилями, блистала шикарными витринами и шелестела тысячами разноязыких голосов Гинза - бесконечная река современной жизни, по которой с отвагой и тайными замыслами неслась непонятная для европейца, побежденная, но непокоренная Япония; ее Олимпиада стала не одним лишь спортивным событием - она открыла миру новую страну, уже заглянувшую в будущее...
Я хотел увидеть вновь Олимпийский парк со стадионом, где в последний день Игр, перемешавшись и перепутавшись, американцы, итальянцы, таиландцы и кувейтцы, бразильцы и французы, норвежцы, чилийцы, индусы и жители Барбадоса, русские, грузины, украинцы, армяне шагали вперемежку с болгарскими, венгерскими, польскими спортсменами; мы были единой, нераздельной мировой семьей, осознавшей свое человеческое родство и опьяненной этим открытием; и не сыскать среди нас человека, способного в тот миг вскрикнуть: "Ненавижу черных!", "Ненавижу белых!", "Ненавижу коммунистов!", "Ненавижу капиталистов!" Такое было просто невозможно в той атмосфере всеобщей любви, радости и братства.