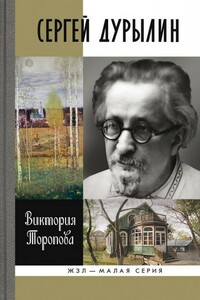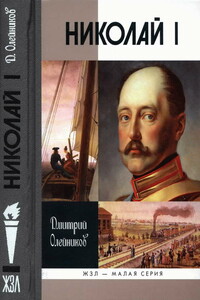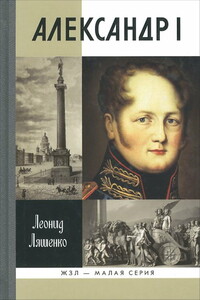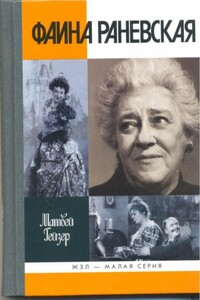Борис Рыжий. Дивий Камень - страница 105
Это было точное наблюдение, на которое Борис отреагировал тотчас:
Я понимаю, что пора пользоваться более нейтральной лексикой, что нельзя паразитировать на однажды найденном герое и интонации, но мне бы хотелось естественно подойти к другому.
Кейс просит Бориса не стремиться к «нейтральности», а относительно новой подборки в «Знамени» («Горнист» в № 9 за 2000-й) говорит:
Несмотря на все прежние впечатления, я опять потрясен. Вы умеете взмахом Ваших стихов переместить читателя и в ад, и в небо. Это очень редкий дар.
Борис признается:
Я столь трепетно отношусь к Вам, Вашему творчеству, тем людям и событиям, другом и участником которых Вы являетесь, что, боюсь, так хочу нравиться Вам, что боюсь показаться фальшивым и надуманным.
За упомянутыми «людьми и событиями» стоял прежде всего Бродский. В письмах идет речь о Гандлевском, Кенжееве, Лосеве, но главное состояло в том, что через Верхейла, скорее всего, Борис реально ощущал символическую передачу эстафеты непосредственно из руки Бродского — ему. Думаю, нечто подобное было и в общении с Рейном.
Кейсу Бродский посвятил стихотворение «Голландия есть плоская страна…». Борис хвалит в превосходных тонах воспоминания Верхейла о Бродском. Страх фальши и надуманности имел почву. Когда — очень скоро — они по предложению Кейса перешли на «ты» и Борис посвятил ему стихотворение «Где обрывается память…», в какую-то минуту Борис, на мой взгляд, слукавил. Верхейл предположил:
К. Кобрин мне послал твои ответы на анкету о Бродском, где ты ставишь его в один ряд с А. А. (Блоком, по-видимому) и Ник. Алексеевичем. Если это Клюев, я очередной раз готов тебя расцеловать, п. что Кл. один из моих самых любимых (И. Б. тоже к нему относился с полным восхищением, мы с ним на эту тему говорили не раз).
Борис восклицает: «Да, конечно, это Клюев! Конечно!» Можно сказать, подпел, из лучших побуждений, и не исключено, что в ту секунду сам себе поверил. Николаем Алексеевичем относительно поэзии в России называют только Некрасова, как Александром Сергеичем — ясно кого. Восклицание о Клюеве на клавиатуре Бориса возникло 12 марта, а 20 марта на той же клавиатуре было отстукано: «И знаете, кто меня спас? Некрасов!» — в письме Ларисе Миллер. Усовестился, видать. Уточнил. Или знал, кому что говорить.
В это время Борис читал роман Верхейла «Вилла Бермонд», где сюжет о русском поэте Тютчеве и его семье переплетается с авторскими воспоминаниями нидерландского военного детства: роман вышел в русском переводе в 2000 году в издательстве журнала «Звезда».
Переписка закончилась на письме Бориса от 28 апреля 2001 года. Накануне они разговаривали по телефону. Содержание разговора отдалось в письме:
Кейс, я думаю, что дело не в поколениях (возвращаясь к Тютчеву), а в отношении человека к поэзии вообще. Для нас с тобой Тютчев (как и Овидий) жив, жив настолько, насколько он был жив на самом деле. Для других он мертвец, а мертвецов в России любят какой-то странной любовью — могут двух живых за одного мертвеца убить.
Оставалось девять дней.
У Омри Ронена в эссе «Молвь» (Из города Энн: Сборник эссе. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2005), написанном к шестидесятилетию гибели Марины Цветаевой, сказано:
Смерть Цветаевой была не самоубийством, а вольной смертью, тем, что немцы называют Freitod. Цветаева ненавидела и презирала страх, а в Советском Союзе она не могла остаться бесстрашной: плоть трепетала, а воля была подорвана невозможностью творчества.
В эссе «Оборвыш» Омри Ронен говорит:
Наконец, приходит время, когда жизнь переваливает за веху генетически определенного ей срока полноценной умственной деятельности, но продолжается оттого, что наши лекаря стали много лучше, чем сто шестьдесят лет назад, когда их пожурил поручик Тенгинского полка. Это возраст осеннего равнодушия…