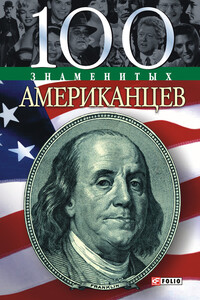Таким образом, в патологии Гёльдерлина нет определенного момента катастрофы, нет резкого перехода от душевного здоровья к душевной болезни. Гёльдерлин сгорает постепенно, изнутри; демоническая сила не вдруг пожирает его бодрствующий разум, как лесной пожар, а постепенно, как заглушенный, тлеющий огонь. Только одна частица его существа — божественная частица, тесно связанная с поэзией, — оказалась огнеупорной, как асбест: его поэтическая мечта переживает трезвое мышление, мелодия — логику, ритм — слово: Гёльдерлин представляет, быть может, единственный клинический случай, когца творчество живет дольше, чем рассудок, и совершенные творения искусства создаются разрушенным духом — так и в природе иногда (очень редко) дерево, пораженное молнией и обугленное до корней, еще долго цветет своей нетронутой пламенем вершиной. Переход Гёльдерлина в патологическое состояние совершается очень постепенно, не так, как у Ницше, — внезапное крушение огромного, небес духа достигшего здания: у Гёльдерлина как бы крошится фундамент, камень за камнем, разрушается, постепенно опускаясь в вязкую почву, в бессознательное. В его поведении все яснее выступают признаки беспокойства, нервного страха, до буйства повышенной восприимчивости, и эти приступы повторяются все резче, промежутки между ними становятся все короче: в былые годы он мог оставаться на одном месте в течение целых месяцев, даже лет, прежде чем напряжение разразится катастрофой, — теперь разряды наступают быстрее. В то время как в Вальтерсгаузене и Франкфурте Гёльдерлин провел годы, в Гауптвиле и Бордо он выдерживает лишь по несколько недель; его жизненная неприспособленность становится все безудержнее и агрессивнее. Снова бросает его жизнь, как разбитый челнок, в материнский дом — неизменную гавань всех его странствий. И в последнем отчаянии, вновь потерпев крушение, простирает он руки к тому, кто в юности направлял его судьбу: еще раз пишет он Шиллеру. Но Шиллер уже не отвечает, он не предотвращает гибель, и, как камень, падает всеми покинутый в бездну своего рока. Еще раз отправляется он, неисправимый, в странствие, еще раз пробует «заняться воспитанием детей», но безрадостно его отплытие: обреченный на смерть, он заранее прощается навсегда.
И покрывало опускается над его жизнью: история становится мифом, и его судьба легендой. Известно, что «в прекрасные весенние дни» он «странствовал» по Франции и «провел ночь на грозных, покрытых снегом высотах Оверни (так пишет он), в ледяной пустыне, в буре и стуже, на жестком ложе, с заряженным пистолетом под рукой; известно, что он приехал в Бордо, в семью немецкого консула, и внезапно оставил этот дом. Но затем надвигается туча и скрывает его закат. Не он ли был тот чужестранец, о котором через десятки лет рассказывала в Париже некая дама? — он вошел в ее сад и, восторженный, с воодушевлением вел беседу с холодными мраморными изображениями богов. Правда ли, что, возвращаясь на родину, он был поражен солнечным ударом, что «огонь, могучая стихия, им завладел», что «его поразил Аполлон», как сказал он в пророческом символе? Правда ли, что грабители отняли у него в пути одежду и последние деньги? На все эти вопросы мы никогда не получим ответа: непроницаемой тучей окутан его обратный путь, его закат. Известно только, что однажды к Маттисону в Штутгарте вошел некто, «бледный, как труп, исхудалый, с пустым, блуждающим взором, длинными волосами и бородой, одетый как нищий», и, когда Маттисон в страхе отшатнулся от этого призрака, тот глухим голосом пробормотал свое имя: .«Гёльдерлин».
Теперь корабль разбит. Еще раз приплывают обломки его жизни к материнскому дому, но мачта надежды, руль разума сломлены навсегда, и с этих пор дух Гёльдерлина живет в безысходной ночи, лишь изредка освещаемой таинственными фосфорическими молниями. Его ум омрачен, но гремит иногда его вещее слово, и, как вдали грохочущий гром, проносится над опущенной головой величавый ритм поэзии. В беседе он не всегда улавливает смысл, в письме простейшие намерения запутываются у него в вычурный клубок, все больше замыкается это существо, все безудержнее льется поток звенящего слова, вытесняя осмысленную речь. Слой за слоем разрушается его дух, его личность; в возвышенном безумии он — только рупор пифического слова, говоря словами Ницше — «мундштук потусторонних императивов», толкователь и глашатай высоких речей, которые нашептывает ему демон, которых не помнит его бодрствующий ум. Люди робко сторонятся его (часто, словно зверь из клетки, вырывается у него раздражение) или потешаются над ним; только Беттина, сумевшая и здесь, как у Бетховена и Гёте, почуять присутствие гения, и Сенклер, мифически преданный друг, узнают присутствие бога в почти животной тупости того, кто «в небесный продан плен». «Несомненно для меня в этом Гёльдерлине, — пишет эта изумительно чуткая женщина, — что божественная сила захлестнула его своей волной — сила языка, своим мощным, стремительным течением затопившая и поглотившая его сознание; и, когда воды успокоились, сознание его было уже расслаблено и умерщвлено». Благороднее, проницательнее никто не выразил его судьбу, и никто не отразил вернее отзвук его демонических бесед (потерянных для нас, как импровизации Бетховена): «Слушая его, невольно вспоминаешь шум ветра: он бушует в гимнах, которые внезапно обрываются, и все это — будто кружится вихрь; и потом им как будто овладевает глубокая мудрость, — и тогда мысль, что он сумасшедший, совершенно исчезает; и когда он говорит о языке и о стихе, кажется, что он близок к тому, чтобы раскрыть божественную тайну языка. Потом снова мысли его тонут во мраке, он утомляется, запутывается, и ему кажется, что он этого не достигнет». Все его существо утопает в музыке: часами (как и Ницше в последние туринские дни) он сидит за роялем и, стуча ногами, берет аккорды, словно стараясь уловить «мелодии над ним, бесконечные», вихрем проносящиеся в его голове, или в бесконечных монологах ритмично декламирует отдельные слова и целые гимны. Некогда вознесенный стихом, блаженный энтузиаст, теперь он снесен, унесен звучащим потоком: с песнью на устах, подобно индейцу в «Гайавате» его брата по судьбе Ленау, он падает в бушующий водопад.