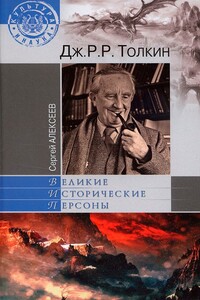И без слов ясно, что Ромен Роллан родился шестьдесят лет назад. Родился он в Кламси, маленькой французской деревушке, посещал обычную школу, но одна глубоко личная склонность позволяет весьма рано угадать в нем человека с многогранной, всеобъемлющей, с европейской душой — речь идет о склонности Роллана к музыке. А тот, в чью душу от природы заложена музыкальность, не в пальцы, а именно в душу, тот постоянно ощущает затаенную, неизбывную и самовозрождающуюся потребность в гармонии. Ромен Роллан и есть такой глубоко музыкальный человек. Это музыка первой научила его рассматривать все народы как некое единение чувства. Однако музыку он воспринимает не только чувствами, но и разумом. Он изучает ее с усердием и страстью. Изучив историю музыки, он двадцати двух лет от роду едет в Рим, где благодаря стипендии может завершить свое образование. В Риме происходит дальнейшее приобщение молодого француза к европейской культуре. На великих мастерах, на Леонардо да Винчи, на Микеланджело учится он постигать величие Италии. Италия предстает перед ним во всем величии старого искусства, в живописности природы, в музыке. И вот уже вторая страна занимает место в сердце француза. Но для того, чтобы в полную силу зазвучал могучий аккорд, которым, по сути дела, является наша европейская культура, все еще недостает третьего голоса — недостает Германии. Однако судьба неизменно высылает вестников навстречу своим избранникам — происходит удивительное: Роллан, никогда в жизни не ступавший на землю Германии, находит эту страну здесь же, в Италии. Он знакомится с одной семидесятилетней женщиной — вы знаете ее имя — Мальвидой фон Мейзенбуг, одной из последних современниц Гете, одной из тех, для кого величайшим событием жизни был не 1870 год, а 1832-й — год смерти Гете, да еще, быть может, 1848-й. Благодаря своей дружбе с Рихардом Вагнером, с Ницше, с Герценом, с Мадзини Мальвида фон Мейзенбуг выросла в высочайших сферах духа. Эта престарелая женщина была последней хранительницей печати, душеприказчицей великих идей, провозглашенных двумя последними мыслителями, чье воздействие простиралось далеко за пределы Германии, — великих идей Вагнера и Фридриха Ницше. Эту престарелую женщину связала с двадцатидвухлетним Ролланом дружба, какая обычно встречается только в книгах, дружба трогательная, нежная, доверительная. Итак, одно свойство было заложено в нем с юности: видеть нации не снизу, не глазами туриста, не в сутолоке второразрядных отелей, среди дорожных неудобств и случайных встреч, а сверху — на уровне великих людей, выдающихся творческих натур. Он научился героическому видению, научился видеть в каждой нации цвет ее. Эту веру он хранил вечно и неизменно: судить и оценивать каждую нацию перед лицом мира или, скажем, бога надлежит по ее взлетам, а не по случайным поворотам политики и данного часа. Потом вечер в Байрейте, он слушает «Парсифаля» из ложи недавно умершего Вагнера. Вместе с Мальвидой и Козимой Вагнер он стоит у могилы Вагнера, и непосредственно из этой героической атмосферы молодой студент возвращается во Францию. Возвращается во Францию, и первое чувство, испытанное им на родине, — испуг. Он застает оживление — то, что он называет «ярмаркой на площади», — оживление в университетах, среди художников. Но за внешним оживлением он видит странную подавленность, причина которой открывается ему очень скоро. Это отзвук незабытого поражения. Ибо каждое поражение — я уже раньше говорил об этом — поначалу в той или иной мере подрывает доверчивость народа. Молодежь неделями, месяцами, годами жила в величайшем напряжении сил, чтобы достичь своей цели. Она отдала себя без остатка, но ее жертва оказалась напрасной. Молодежь была разбита и сокрушена какой-то высшей силой, и это не могло не вызвать шока. Говорилось так: к чему было наше мужество, наши старания, во имя чего мы отдали лучшие силы нашей души? Это и создавало атмосферу подавленности и неуверенности. Вдобавок и литература точно отражала эти настроения. Кто были тоща лучшие умы Франции? Эмиль Золя, Анатоль Франс, Ренан. Я не собираюсь заниматься сравнениями и отнюдь не намерен сказать хоть слово против этих больших и настоящих художников; я просто хотел бы заметить, что творчество Золя или Мопассана — изображение чудовищной действительности, жестокой правды жизни — не могло воодушевить молодежь того времени, равно как не могла это сделать ни ироническая мудрость скептика Анатоля Франса, ни холодная отрешенность классика Ренана. Тогдашней молодежи — это почувствовал и Морис Баррес — нужно было что-то другое, нужен был импульс к действию. И Баррес выдвигает лозунг: реванш, новая война, национальное самосознание, обновленная сила! Роллан же хотел, чтобы сила исходила изнутри; хотел иным путем преодолеть в человеческих душах поражение, подавленность; он хотел возвысить и воспламенить людей с помощью искусства. Он был уже готов к этому, как вдруг произошло удивительное событие, которое предопределило его дальнейшую судьбу.