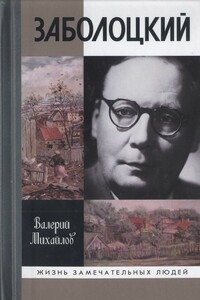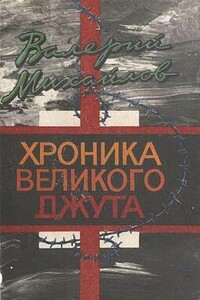И напоследок благословляет друга «во имя Феба и святых Ореста и Пилада»:
Цвети, мой несравненный цвет, певцов очарованье.
Отставка. Предварительные итоги
Между тем в Гельсингфорсе генерал-губернатор А. А. Закревский подписал докладную записку об отставке прапорщика Боратынского и отправил её в Петербург, в Главный штаб.
Боратынский об этом пока не знает. — Он получил долгожданное письмо от Н. Путяты и пишет ответ. С тоской он признаётся другу, что скучает в Москве, что новые знакомства несносны своею пустотой: «<…> Сердце моё требует дружбы, а не учтивостей, и кривлянье благорасположения рождает во мне тяжёлое чувство. Гляжу на окружающих меня людей с холодной ирониею. Плачу за приветствия приветствиями и страдаю. — Часто думаю о друзьях испытанных, о прежних товарищах моей жизни — все они далеко! И когда увидимся? Москва для меня новое изгнание. Для чего мы грустим в чужбине? Ничто не говорит в ней о прошедшей нашей жизни. Москва для меня не та же ли чужбина? Извини мне моё малодушие, но в скучной Финляндии, может быть, ты с некоторым удовольствием узнаешь, что и в Москве скучают добрые люди. Прощай, мой милый, обнимаю тебя <…>».
Это — самое главное. А так в письме всякая всячина: и шутливая благодарность одному чиновнику из Гельсингфорса за «замечания» к стихам, и едкая эпиграмма на Булгарина, также поучающего поэта. Всё, кажется, на потеху, — о важном же сказано вскользь, как бы между прочим:
«<…> В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта скалы касаются неба, следственно, всходят до небес».
Кажется — то есть видится воображению, разуму, интуиции. Скалы, касающиеся неба, — твёрдая, непорушаемая крепость; и всходят они до небес — по вдохновению, дарованному свыше.
Боратынский давно знал в себе это.
«<…> ведь и поэтическая юность его отмечена созданием поистине гениальных произведений (прежде всего лирических), — отмечает филолог Евгений Лебедев, глубокий знаток творчества Боратынского. — Ранний взлёт Боратынского был настолько стремительным и мощным, чувства, запечатлённые уже в первых его произведениях, настолько развиты, мысли настолько проницательны, а выражение их — исчерпывающе и совершенно, что поневоле встаёт вопрос: а что же дальше? И возможно ли, в принципе, это „дальше“ для поэта, самый дебют которого столь ошеломляюще похож на подведение итогов?
Попробуем всё-таки выяснить, почему „зрелость необыкновенная“ пришла к Боратынскому так скоро и что здесь сыграло решающую роль?
Талант? Безусловно, но не только это. Высокая общая культура? Да, конечно. Однако сам по себе факт раннего приобщения к культурным ценностям отнюдь не гарантирует ускоренного творческого развития, не даёт, так сказать, патента на глубину и зрелость в 18 или 20 лет. Можно быть юношей одарённым и образованным и тем не менее оставаться поверхностным до известной поры; можно вообще „промотать“ своё духовное богатство по мелочам и к периоду творческого возмужания прийти, что называется, с пустыми руками. Помимо таланта и эрудиции, здесь, по-видимому, необходимы ещё какие-то качества личности, необходим дополнительный внутренний стимул. И Боратынский его имел…»
Конечно же, дебют вовсе не был подведением итогов — зрелая и поздняя лирика Боратынского это ясно показала…
Е. Лебедев попытался понять, почему так рано далась Боратынскому необыкновенная зрелость в стихах. Вывод учёного таков: «Это очень трудно: найти самое нужное, самое точное — единственное слово, чтобы ни ты и никто другой никогда не спутал эту мысль, это чувство, эту вещь, этот миг с другими мыслями, чувствами, вещами, мгновеньями. Тут всё взаимосвязано: память существует или — как сказали бы в XIX веке — одействотворяется только через точность названий того или иного фазиса души. Но для этого надо отметать всё лишнее, снимать с вещи за покровом покров, пока не откроется её сущность <…>».
А вот и самое главное, восклицает учёный:
«<…> Пожалуй, до Боратынского не было на Руси поэта-лирика с таким, как у него, самоконтролем, с такою феноменальной требовательностью к самому себе. Причём требовательность эта была не только профессионального свойства, и проявилась она в Боратынском, по всей видимости, ещё до того, как он осознал себя поэтом. Вернее сказать: он и поэтом-то настоящим сделался и место своё рядом с Пушкиным занял лишь потому, что с самого начала был в буквальном смысле слова беспощаден к себе как человек — ищущий, думающий, неспособный на сделку с совестью <…>».