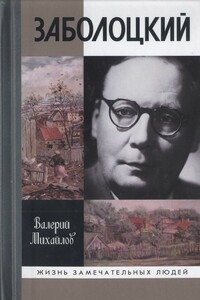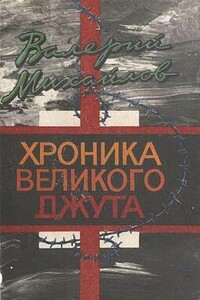Сюжет столь прост, что толкователи литературы были в досаде.
Каждый из них судил по своему разумению и вкусу.
Александру Бестужеву недостало от «Эды» гражданских обличений. Зимой 1825 года он писал Пушкину в Михайловское: «<…> Что же касается Баратынского — я перестал веровать в его талант. Он исфранцузился вовсе. Его „Эдда“ есть отпечаток ничтожности и по предмету, и по исполнению <…>».
Ему по сути вторил — но уже публично — Фаддей Булгарин, пеняя Боратынскому на «скудость сюжета», которая «имела действие и на образ изложения: стихи, язык в этой поэме не отличные».
Виссариона Белинского привёл в полное недоумение этакий незамысловатый рассказ. Критик ожидал трагедии и пафоса, приличного трагедии, а нашёл необычайную простоту. Что же это, как не «Бедная Лиза» в стихах? — решил он. И сделал вывод: плохая поэма.
Другое дело — Пушкин.
Пушкин был читателем совсем иного качества: то не критик, а поэт оценивал поэта. К Боратынскому, своему ровеснику и другу, он присматривался, быть может, как ни к кому другому. Мало того — Пушкин тосковал по общению (так, в мае 1825 года он писал из Кишинёва Н. Гнедичу: «<…> От брата давно не получал известий, о Дельвиге и Баратынском также — но я люблю их и ленивых <…>»). Боратынский притягивал Пушкина своей поэтической новизной. Это было не банальное соперничество — но освоение тех возможностей, что таила в себе ещё далеко не возделанная нива русской поэзии. Всей глубиной своей творческой интуиции Пушкин угадывал в Боратынском первооткрывателя, нового поэта, каких ещё не бывало. Вот почему Боратынский не покидал его дум: то на полях рукописи «Евгения Онегина» Пушкин набрасывал своим летящим точным пером его профиль, то требовал от Дельвига или самого поэта — свежих стихов, то использовал ту или иную тему Боратынского, разрабатывая её по-своему.
Узнав, что Боратынский пишет новую поэму, Пушкин буквально забрасывал младшего брата и друзей просьбами: немедленно прислать ему список «Эды». «<…> Торопи Дельвига, присылай мне чухонку Баратынского, не то прокляну тебя <…>» (из письма брату Льву, ноябрь 1824 года). «Пришли же мне Эду Баратынского. Ах он чухонец! да если она милее моей Черкешенки, так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду» (из письма брату Льву и сестре Ольге, 4 декабря 1824 года).
Прочитав наконец поэму, Пушкин пришёл в восторг. Ему хотелось, чтобы этот восторг разделили другие. Недаром 20 февраля 1826 года он отослал П. А. Осиповой в Тверь книгу Боратынского с «Эдой» и «Пирами», сопроводив посылку запиской: «Вот новая поэма Баратынского, только что присланная мне Дельвигом; это образец грациозности, изящества и чувства <…>».
А самому Дельвигу он писал в тот же день в Петербург: «<…> что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по-своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо! <…>».
Тем же днём помечена эпиграмма Пушкина на убогую рецензию Ф. Булгарина в «Северной пчеле». И у себя в псковской глуши Пушкин следил за литературной жизнью столицы — и уж тем более, под впечатлением от «Эды», не мог пропустить свежеиспечённый отзыв на поэму. Булгарин не нашёл в поэме «<…> пиитической, возвышенной, пленительной простоты, которой мы удивляемся в „Кавказском пленнике“, „Цыганах“ и „Бахчисарайском фонтане“ А. С. Пушкина <…>».
Хотел ли критик сшибить лбами Боратынского и Пушкина? (С него станет: тот ещё провокатор!..) Однако, скорее, критик не уловил поэзии — по той же причине, что и Бестужев: как читатель оказался прямолинеен и толстокож: «<…> Даже в прозе повесть сия не увлекла бы читателя заманчивостью, а нам кажется, что поэзия должна избирать предметы возвышенные, выходящие из обыкновенного круга повседневных приключений и случаев: иначе она превратится в рифмоплётство <…>».
Заочный ответ Александра Пушкина поставил всё на место:
Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.
Меньше всего Боратынский искал в «Эде»