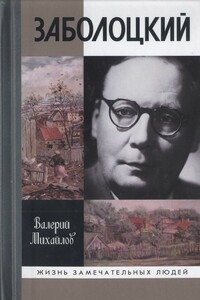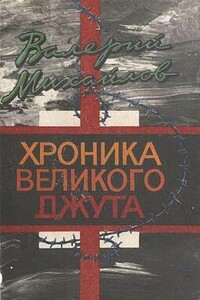А затем — младшему брату Льву: «<…> Читал стихи и прозу Кюх<ельбекера> — что за чудак! Только в его голову может войти жидовская мысль воспевать Грецию <…> славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказали Гомер и Пиндар? — но что говорят Дельвиг и Баратынский? <…>».
Собратья-поэты были разлучены разве что судьбой, но не душой и сердцем. Как писал тогда же Боратынский:
<…> Развеселясь, в забвеньи сердце пели,
И, дружества твердя обет святой,
Бестрепетно в глаза судьбе глядели <…>.
(1822)
В этих строках из ранней редакции послания к Дельвигу незримо присутствуют и Пушкин, и Кюхельбекер…
Не один только Пушкин следил за тем, как стремительно взлетал к вершинам поэзии Евгений Боратынский. Прославленный переводчик Гомера Н. И. Гнедич прислал молодому поэту свежую книжку «Сына отечества» со своей идиллией «Рыбаки». Боратынский хворал — и ответил сердечной запиской: «Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно ещё здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то електрическим воскресением, обновляя его от времени до времени <…>».
В апрельском номере «Сына отечества» вышло «Письмо к издателю» Павла Катенина: известный поэт и драматург обращался к Н. И. Гречу, оценивая его труд об истории русской литературы, и замечал: «Из молодых писателей упомянули вы об одном Пушкине; он, конечно, первый между ими, но не огорчительно ли прочим оставаться в неизвестности? <…> Признаюсь вам, мне особенно жаль, что вы не упомянули о Баратынском. Хотя, к сожалению, большая часть его стихов написана в модном и несколько однообразном тоне мечтаний, воспоминаний, надежд, сетований и наслаждений; но в них приметен талант истинный, необыкновенная лёгкость и чистота». Греч ответил Катенину со страниц журнала, что собирается писать о Боратынском и других поэтах во втором издании своего труда.
Ангел Софи
В конце мая 1822 года в Петербург приехала навестить брата сестра София, сопровождаемая одной из тётушек. Соша, Сошичка, как её звали домашние, годом младше Евгения, была, наверное, ему ближе и любимее всех других сестёр и братьев. Они были погодки, выросли вместе и с детства лучше всех понимали друг друга. 30 мая она писала матери в Мару:
«Вот уже три дня мы в Петербурге, любезная маменька. Брата я застала здоровым. Вы не можете вообразить нашей радости, давно я не чувствовала ничего подобного. Если бы вы видели его восторг и удивление; он просто не верил своим глазам. Он совершенно здоров и телом, и душою; очень похорошел, прекрасно выглядит, и то же, всё то же сердце, которое живёт только надеждой видеть вас; его любовь к вам неизъяснима: ему мнится видеть во мне часть вас самой. — Он в самом деле поменял квартиру; когда мы наконец её нашли, то застали там порядок и чистоту, меня изумившие; он живёт с бароном Дельвигом; нам пришлось ночевать у них, ибо было очень поздно, а его друг уехал в гости на всю ночь <…>» (здесь и далее — перевод с французского).
Утром гостьи попали под опеку дядюшки Петра Андреевича, устроились у него на даче, пили чай в саду; старый адмирал был так рад, что после обеда даже не соснул по обычаю и всё не отпускал от себя племянницу. «<…> потом он показывал мне примечательные места Петербурга; это красиво, очень красиво, но мы с братом не уставали повторять, что нет ничего лучше нашей деревушки! <…> надеюсь, очень надеюсь, что Бог наконец внемлет моим бесконечным молитвам, и брат вернётся навсегда; дядюшка так добр, что делает даже невозможное для его избавления; я передала ему вашу благодарность за доброту, с коей он относится к брату; сама благодарила его и ещё просила за брата, что его очень растрогало, он даже прослезился <…>. Есть много новых сочинений брата, из которых ни одно не напечатано, ибо они написаны только для себя; среди них весьма милые вещицы, мы привезём их вам. Сегодня обедал с нами Дельвиг; у него такое ужасное зрение, что он почти ничего не видит и только в очках кое-что разбирает <…>».