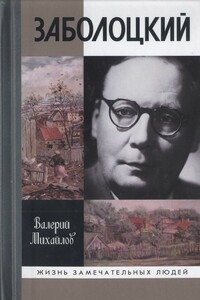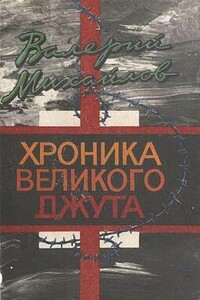Пушкин в письме Киреевскому выразил сомнение по этому поводу этого мечтательного пожелания, ведь комедия, как и сценическая живопись, требует кисти более резкой и широкой, чем у Боратынского. Киреевский в ответном письме не согласился с Пушкиным; «<…> Говоря, что Баратынский должен создать нам нового рода комедию, я основывался не только на проницательности его взгляда, на его тонкой оценке людей и их отношений, жизни и её случайностей, но больше всего на той глубокой, возвышенно-нравственной, чуть не сказал гениальной деликатности ума и сердца, которая всем движениям его души и пера даёт особый поэтический характер и которая всего более на месте при изображении общества. Впрочем, Вы лучше других знаете Баратынского и лучше других можете судить о нём, потому я уверен, что по крайней мере в главном мы с Вами не розним <…>».
Желая от Боратынского новой комедии, Киреевский явно был под впечатлением ярких драматических диалогов в «Наложнице», — вот почему ему показалось, что поэт движется в своём развитии к драматургии. Однако Пушкину действительно было виднее: Боратынский по природе — лирик. Но и поэмы Боратынского он любил, вполне признавая его эпический дар: позже, в апреле 1832 года, он писал М. В. Юзефовичу: «<…> Отрадно, что „Наложница“ Баратынского Вам понравилась, ход поэмы любопытен, исполнение — поэтично и оригинально. Мне очень нравится предисловие, полное чувства и здравых рассуждений <…>» (перевод с французского).
Боратынский, прочитав статью Киреевского, написал другу (февраль 1832 года):
«<…> Разбор „Наложницы“ для меня — истинная услуга. <…> Ты меня понял совершенно, вошёл в душу поэта, схватив поэзию, которая мне мечтается, когда пишу. Твоя фраза: „переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную“ заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия, но выражал его хуже. Не могу не верить твоей искренности: нет поэзии без убеждения, а твоя фраза принадлежит поэту. Нимало не сержусь за то, что ты порицаешь род, мною избранный. Я сам о нём то же думаю и хочу его оставить <…>».
Удел помещика
Год в Каймарах, с лета 1831-го по лето 1832-го (частью прожитый в Казани), был для Евгения Боратынского исключительно напряжённым: он много писал, причём пробовал себя в новых жанрах, ещё больше думал и читал. Поэт словно бы выбирал свой дальнейший творческий путь и в этом смысле переживал переломное время.
Но и семья, семейные заботы всё больше забирали его, не давая желанного покоя для творчества. Тесть, Лев Николаевич Энгельгардт, старел, дряхлел, и Боратынскому приходилось чаще прежнего заниматься делами поместья. В конце августа 1831 года Пётр Вяземский в письме Александру Пушкину передавал шутливые слова Боратынского: «Пишу не для потомства, как Вы предполагаете слишком дружески, но для нижнего земского суда». С Иваном Киреевским Боратынский был ещё доверительнее и, как ни берёг своего друга-философа от мелочей быта, порой досадовал на свою жизнь: «<…> Вот уже месяц, как я в казанской деревне. Сначала похлопотал о хозяйстве, говорил с прикащиками и старостами. У меня тяжебное дело, толковал с судьями и секретарями. Можешь себе вообразить, как это весело. Теперь я празден, но не умею ещё пользоваться досугом. Мысль приходит за мыслью, но ни на одной не могу остановиться. Воображение напряжено, мечты его живы, но своевольны, и ленивый ум не может их привести в порядок. Вот тебе моя психологическая исповедь <…>».
Очевидно, и удел помещика оказался для Боратынского ярмом.
Поэту вообще необходима полная свобода. Но где ж её взять?.. Не отсюда ли «гипохондрическое расположение духа», о котором он весьма уныло сообщает Киреевскому? Мало того что деревня вдали от столиц и от света, и от товарищеского круга, так ещё и никаких писем от друзей…
Кое-как он дождался письма из Москвы от Киреевского: как и предполагал, у друга что-то случилось, потому тот и молчал: «<…> Чувствую, делю твоё положение, хотя не совершенно его знаю. Тёмная судьба твоя лежит на моём сердце. Ежели в некоторых случаях бесполезны советы и даже утешения дружбы, всегда отрадно её участие. Не хочу насиловать твоей доверенности; знаю, что она у тебя в сердце, хотя не изливается в словах, понимаю эту застенчивость чувства, не прошу тебя входить в подробности, но прошу хотя общими словами уведомить меня, каково тебе и что с тобою. Таким образом ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайне, которую требует другое чувство. Что бы с тобою ни было, ты по крайней мере знаешь, что никто более меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоим горем. В этой вере настоящее утешение дружбы. О тебе я думаю с тою же верою, и она пополняет моё домашнее счастие <…>».