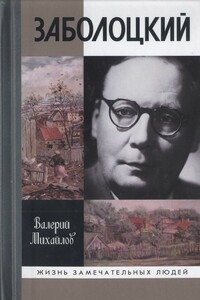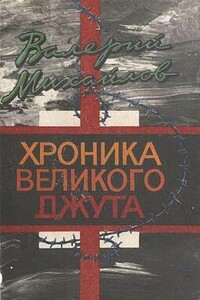Если говорить об «Отрывке», то «философия христианская» в нём, безусловно, есть — хотя и постоянно колеблемая сомнением…
Очевидно одно, — и «Отрывок» свидетельствует про это, — поэт ждал настоящего разрешения своих сомнений — «за могильным рубежом», где
<…> оправдается Незримый
Пред нашим сердцем и умом.
«<…> говоря о вере Баратынского, следует проявлять осторожность, — считает Гейр Хетсо. — Его тоска по вере несомненна, но достиг ли он её когда-либо по-настоящему? Как поэт-мыслитель Баратынский испытал на себе правду, заключённую в словах Льва Толстого: „Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в Боге можно только верой. Тертуллиан сказал: „Мысль есть зло““».
В «Отрывке», по мнению исследователя, перед нами внутренний диалог, происходящий в душе поэта. И Гейр Хетсо приводит убедительное доказательство того, что не «религиозная» жена учила вере Боратынского, а сам он убеждал её в правде религии: «Об этом у нас имеется высказывание Настасьи Львовны, которая говорит о муже, что „он стремился к тому, чтобы я так же веровала, как он, и когда я его просила не затрагивать этого вопроса, он весело отвечал, что надеется рассеять моё неприязненное отношение и убедить меня в невозможности разлуки двух любящих существ“».
…Боратынский, конечно, не прекратил писать стихов и после своего диалога о вере и неверии: постижение отчаяния не знает пределов. Об этом говорят его более поздние стихи…
Для понимания противоречий, гнетущих поэта, показательно одно стихотворение, написанное два года спустя, — светлое, чисто-звонкое, исполненное радости жизни, совершенное по звукописи…
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурею живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несёт
На торжествующем хребте
Поднятый ею лёд!
Ещё древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поёт
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьём она — ручей
И с птичкой — птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней!
Зачем так радует её
И солнце, и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она? <…>
Высшую земную радость испытывает поэт — и вдруг в последней строфе говорит, на чём основана эта радость:
Что ну́жды! счастлив, кто на нём
Забвенье мысли пьёт,
Кого далёко от неё
Он, дивный, унесёт!
(Весна 1832)
Счастье, по Боратынскому, — в забвеньи мысли.
Но это счастье если и доступно, то ненадолго.
Вряд ли ему приходилось надолго забываться и на радостном пире стихий…
О том, что творилось у него внутри, быть может, точнее всего говорит одно из самых последних его стихотворений, написанное за несколько месяцев до внезапной кончины и обращённое к жене, Настасье Львовне:
Когда, дитя и страсти, и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,
В нём таинство печали полюбя.
Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нём чудесная любовь.
О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.
(Январь — февраль 1844)
Это стихотворение свидетельствует об автобиографичности «Отрывка» или «Сцены из поэмы „Вера и неверие“»… Дикий ад мысли сопровождал поэта всегда.