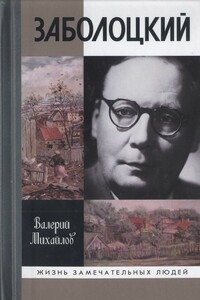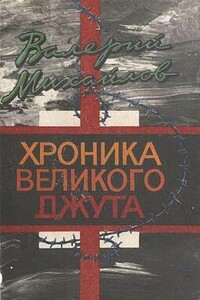Боратынский словно бы определяет наперёд всю свою жизнь в этом «вожделенном краю»: так приглянулась ему округа, с ясной далью и уютным прудом, с широким лугом и светлыми нивами «меж рощ своих волнистых».
Жизненный путь выбран; поэт ни о чём не жалеет и не желает ничего иного.
П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу:
«Баратынский женился на дочери Энгельгардта-московского. Брак не блестящий, а благоразумный. Она мало имеет в себе элегического, но бабёнка добрая и умная. Я очень полюбил Баратынского: он ума необыкновенного, ясного, тонкого. Боюсь только, чтобы не обленился на манер московского Гименея и за кулебяками тётушек и дядюшек».
…Не блестящий, а благоразумный… Точная характеристика брака, хотя и несколько двусмысленная. С одной стороны, что же плохого в благом разуме; но с другой — определение всё же говорит о расчёте, об осторожности и предусмотрительности там, где должно преобладать чувство. Однако вспомним женитьбу Пушкина: у его невесты внешность была самая что ни на есть элегическая, и брак был самый блестящий. Но чем закончилось… Женился позже — погиб раньше. Всегда ли благоразумие ведёт ко благу, это вопрос. А ещё больший: приводит ли страсть к счастью…
Лев Пушкин в сердцах заметил, что Боратынский «теперь», то есть став мужем, «выкидывает лучшие пьесы» из книги, намеченной к изданию, — и всё по причине своего нового, семейного качества. В самом деле, почему-то нет в собрании его стихов 1827 года элегии «Признание», на редкость искренней, горькой и выразительной. Там, в ранней редакции (1823), есть строки, будто бы предсказывающие весьма возможный вариант его судьбы:
<…> Предательства верней узнав науку,
Служа приличию, Фортуне иль судьбе,
Подругу некогда я выберу себе,
И без любви решусь отдать ей руку.
В сияющий и полный ликов храм,
Обычаю бесчувственно послушной
Я клятву жалкую во мнимой страсти дам…
И весть к тебе придёт; но не завидуй нам;
Не насладимся мы взаимностью отрадной,
Сердечной прихоти мы волю не дадим,
Мы не сердца Гимена связью хладной —
Мы жребий свой один соединим <…>.
В окончательной редакции (1832) это откровенное признание смягчено, но суть осталась прежней:
<…> Подругу без любви — кто знает? — изберу я.
На брак обдуманный я руку ей подам <…>.
«Сбылось ли это предсказание? — спрашивает Гейр Хетсо. — В нём есть доля истины, хотя нельзя сказать, что поэт женился без любви <…>».
Биограф считает, что вступление Боратынского в брак имело и светлые, и тёмные стороны.
«Светлые стороны брака заметить не трудно. Женитьба безусловно опиралась на взаимную любовь. Сохранилось много свидетельств о гармоничной совместной жизни „этих двух… исполненных поэзии меланхолических образов“, которые оба „видели в домашнем очаге единственную свою отраду, единственное счастье“. Письма поэта к жене тоже говорят об искренней любви <…>. Лишь однажды мы узнаём о какой-то „размолвке“ между супругами, которая, однако, быстро проходит, так как раскаявшийся поэт сразу берёт всю вину на себя. Нет сомнения в том, что Баратынский продолжал увлекаться красивыми женщинами и после своей женитьбы на Настасье Львовне. Но кроме внешней красоты поэт всегда искал у знакомых ему женщин ещё и другого: искренней дружбы, душевной красоты. Именно этими качествами в полной мере обладала Настасья Львовна <…>».
Сам же Боратынский начиная с осени 1826 года без обиняков пишет друзьям о своём счастье.
Александру Муханову в октябре он, среди прочего, коротко сообщает: «<…> Двор уехал, Москва глупа и тошна; но мне мало до этого дела, потому что я счастлив дома. Принялся опять за стихи… (за поэму „Бал“. — В. М.)».
Николаю Путяте в ноябре пишет: «<…> Я живу потихоньку, как следует женатому человеку, и очень рад, что променял беспокойные сны страстей на тихий сон тихого счастья. Из действующего лица я сделался зрителем и, укрытый от ненастья в моём углу, иногда посматриваю, какова погода в свете <…>».
А с давним другом Николаем Коншиным, неожиданное письмо от которого его сильно обрадовало, в декабре беседует и вовсе по душам:
«<…> Так, мой милый: вашего полку прибыло: я женат и счастлив. Ты знаешь, что сердце моё всегда рвалось к тихой и нравственной жизни. Прежнее моё существование, беспорядочное и своенравное, всегда противоречило и свойствам моим, и мнениям. Наконец я дышу воздухом, мне потребным; но я не стану приписывать счастия моего моим философическим правилам, нет, мой милый, главное дело в том, что Бог дал мне добрую жену, что я желал счастия и нашёл его. Я был подобен больному, который, желая навестить прекрасный отдалённый край, знает лучшую к нему дорогу, но не может подняться с постели. Пришёл врач, возвратил ему здоровье, он сел и поехал. Отдалённый край — счастие; дорога — философия; врач — моя Настинька. Какова аллегория? И не узнаёшь ли ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца? <…>»