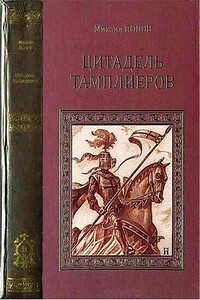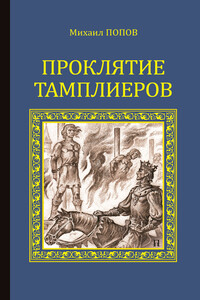— Но почему ты боишься, что будут нарастать с каждыми родами негативные, разрушительные качества? Да, этот, первый парнишка чудовище, но Владислав Владимирович говорил как–то, что девочка, по его сведениям, ангелоподобна.
Колпаков вмиг взбеленился, вплоть до пены на губах.
— Он что, видел ее, видел?! Сам видел?! И потом, что значит ангелоподобная? Значит, нечеловечна! Мальтиец вывел новую породу существ. Пойми, Рубиныч. Это не слегка мутировавшие из–за долгого употребления водки и кислоты людишки. Это существа, это не мы! Неизвестно, на что способные, неизвестно, чего желающие! Сначала бес, потом ангел, а дальше?
— Здравствуйте, Иван Рубинович, здравствуйте, полковник.
— А, это вы профессор?
Герой романа «Пир», молодой человек по имени Иннокентий, оказавшись в психиатрическом санатории (трепет дополнительного интереса пробежал по моему слонопотамному телу), решил обмануть реальность. Вместо того, чтобы просто бежать из медицинской тюрьмы (что было очень просто сделать), он задумал изгнать из себя болезнь, если таковая вообще имеет место. Внешние стены санатория являются для него стенами только до тех пор, пока он сомневается в своем здоровье.
Меня поразили две вещи. Сначала — сходство ситуаций, его и моей. Чуть позднее, сама возможность сходства. Оказывается, я не на сто процентов отличен от обыкновенного, хотя и не вполне нормального человека. Этот Иннокентий, на протяжении сотен страниц пытался выяснить, а не псих ли он. Переходил каждые несколько минут от уверенности в себе, к вере во врачей и таблетки. Если разобраться, мои сомнения того же рода и порядка. По крайней мере, я тоже могу перейти, например, от мрачного осознания своей полной, неизлечимой монструозности к состоянию сомнения — а так ли оно на самом деле? Нет, я не надеялся в конце концов оказаться просто человеком. Нет, я, конечно, не человек. Человек (это слово уже навязло у меня в зубах, но его абсолютно нечем заменить, удовлетворительным синонимов нет) не может одним словом причинить другому человеку печеночную колику. Но, вместе с тем, как много из свойственного людям, не чуждо мне.
Вот что этот Иннокентий пишет: «Условия голодания были громоздки, соблюсти их в больнице — представлялось трудновыполнимым. Каждое утро клизма, непрерывные прогулки на свежем воздухе, несколько литров кипяченой воды в сутки, каждый вечер душ… Организм, перестав получать пищу извне, получившись три дня — на третий день затухают натуральные пищевые рефлексы — верблюжьим приемом под названием ацидотический криз, переключается на питание своими внутренними запасами. В топке этого особого пищеварения горят накопившиеся в клетках отложения, все внутри них становится чисто, эластично, как и было задумано природой. А то, что было случайно вжовано, всосано и запуталось среди ясных природных струн, извлечется наружу и канет в заслуженном небытии… Иннокентий имел слишком много объектов для внимания внутри себя. Действительно там, в родной глубине, появлялось все больше такого, за чем можно было наблюдать. Новые ощущения возникали внезапно и тускло искрились в теплом космосе его тела. Он был очень внимателен и не упускал мельчайших движений. Мареововидные волны слабости перемещались туда–сюда, водопады тошноты низвергались в диафрагмы, начались постоянные кожные предрассудки — когда волосы встают дыбом, пупырчатые предчувствия холода».
Я испытывал в точности эти самые ощущения.
«Есть хотелось сильно, и с каждым часом все сильнее. Пределов росту этого желания не было. Тело временами казалось просто слабой надстройкой над внезапно открывшейся бездной голодающего пространства. Гулко, прохладно… Точнее не скажешь! Да, холод. Источник его — желудок. Холод был продуктом желудка, и в особенности страдали от него конечности. Они тяжелели от него. А желудок почти пел, он низвергал и низвергал эту отрицательную силу–холод.»
Несмотря на то, что на дворе стоял август, я мерз. Этому способствовала вползающая с улицы сырость, непрекращающегося дождя.
«Прекрасно действовал душ, вода — мягкий, внятный носитель тепла, вода на время вселяла свою текучую природу в оставленные без дела сосуды и ткани».