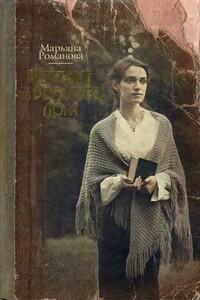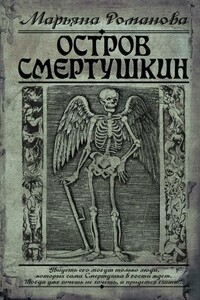«Попасть в руки судьи по делам ведьм означает, что обвиняемому придется бороться за свою жизнь со львами, волками и медведями, не имея никакой защиты, поскольку он лишен любого оружия. 1650 год», – читала Рада.
Что это такое, зачем эти странные строчки понадобились пятнадцатилетней девушке?
«Антуан Годен, около сорока лет, принеся присягу и будучи допрошен, сказал, что слышал, как сын упомянутой Дэсле говорил в поле, что его мать отправилась задом наперед на витой ивовой палке на сборище. Также он свидетельствовал, что слышал, как люди говорили, что упомянутая Дэсле трижды произносила проклятия по адресу женщины по имени Прэнс, пока та рожала. 1529 год».
И тому подобная муть. Рада расстроилась, но дочери ничего не сказала.
Ее назвали Радой, и в этом была ирония судьбы, ибо она не радовалась почти никогда. Хотя умела отлично имитировать – вся ее жизнь, в сущности, была хорошей миной при дурной игре. Она давно смирилась, хоть и плакала иногда в подушку перед сном.
Грусть, грусть, едкая, как дым дешевых сигарет.
Должно быть, проще живется тем, чье существование напоминает набор машинальных ритуалов. На ощупь сунул ноги в привычные тапочки, сварил кофе, поплелся в офис знакомым маршрутом, на лестнице встретил коллегу, который заученным преувеличенно бодрым тоном спросил: «Как дела?», точно так же заученно ответил ему: «Лучше всех! Отлично!», а сам при этом подумал, что ничего же хорошего, долги по квартплате, отсутствие секса, эти грязные московские лужи, хамство, водители маршруток, рассуждающие о политике, опять кариес, и какая-то родинка подозрительная на плече, и все время хочется спать.
Включил компьютер, полистал новости, поработал немного, а там и обеденный перерыв, и гуляш в местной столовой напоминает собачий корм. Вечером – толкотня в маршрутке, потом – разогреть что-то на ужин, а вот уже и спать пора. Городская зомби-программа, не подразумевающая рефлексии.
Рада с детства к каждой ситуации относилась как к кубику Рубика. Ее личными инквизиторами были тысячи возможных альтернатив, которые она каждый раз открывала постфактум.
Раду воспитывала бабушка.
Не ешь меня, бабушка. Только, пожалуйста, не ешь меня.
Август, желтая луна в окне, комары, душно, ночь как ночь. Кто-то неумело бренчит на гитаре во дворе, и Раде мерещится, что пытаются вывести «Блю валентайнз», хотя на самом деле – Цоя. Какие блю валентайнз в восточном Гольянове? Занавеска слегка колышется, как привидение, в квартире пахнет смертью: блины, хризантемы, свечной воск. Все домашние спят, потому что близость смерти и связанный с ней особенный сорт суеты утомляет больше, чем физический труд.
Рада одна в кухне, перед ней остывающий чай, который она налила машинально, потому что не сидеть же перед пустым столом. В голове было пусто. Не та священная пустота, которая есть первооснова всего – но тягостная, с привкусом ожидания беды.
С самого утра все шло не так, нахамили в морге – обидно, беспричинно – потом ей стало плохо на отпевании, она начала оседать на пол, и если бы кто-то не подхватил, подожгла бы юбку свечой. Долго искали парковку у крематория. А потом выяснилось, что крематория на кладбище два, и они приехали не к тому, а в нужном – все на них злы, потому что очередь. На поминках подали скисший компот. Тосты были все какие-то фальшивые, как будто бы произрастали не из любви и пустоты, а из суеверного тезиса «о мертвых либо ничего, либо хорошо».
У бабушки фобия была – боялась, что ее заживо похоронят.
– Внучка, когда я умру, ты отруби мне пальчик, – просила она.
– Что ты за ужасы говоришь, зачем?
– Говорят, если у человека сон летаргический, то болевой шок разбудить его может. А то усну, а все подумают – померла. Увезут в холодильник меня. Я буду думать – что же вы, зачем же меня в мешок положили, я же живая. А сама понимаешь, кто трупы возит – санитары пьяные. Потом в холодильнике я усну. А проснусь уже под землей, в гробу. Буду метаться, кричать, царапать ногтями доски. И не услышит никто. Отруби мне пальчик, внученька, чтобы этого не случилось.
– Бабушка, замолчи, замолчи!