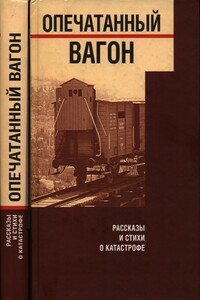Его отношение к нашему социализму я определяю как благожелательную незаинтересованность. Поскольку он еще ни разу не брал на себя труд разобраться в законах, которые лежат в основе общественного развития, его симпатии и антипатии неизбежно должны быть окрашены эмоциями и настроениями. Вдобавок, продолжаю я, положение других людей в этой стране не играет для него существенной роли, что я, собственно, и имел в виду, говоря о себялюбии. Возможно, он находит справедливым, что сейчас материально благополучных людей больше, чем в прежние времена, но находит лишь так, между прочим. А может, он считает величайшим достижением, что его никто не преследует?
— Ты хочешь сказать, меня как еврея?
— Да.
— А разве я еврей?
Я смеюсь и не знаю, что ему ответить, экий остряк, думаю я.
— Ну ладно, — говорит Арон, — об этом мы с тобой потолкуем позже.
Политические цели, продолжаю я, ему чужды и безразличны. Поскольку он не участвует в активной жизни, различия между социализмом и капитализмом носят для него чисто теоретический характер, а потому и не слишком важны, боится же он только фашизма. Отсюда возникает неразрешимое противоречие: он рад, что никто не пытается нарушить ту изоляцию, которая на самом деле составляет его величайшее несчастье. Время от времени мелкие поводы для возмущения — война в Индокитае, преследование негров в Южной Африке, приход убийц к власти в Чили — все это скверно и в то же время непонятно, а главное, все это происходит где-то очень далеко. Для того чтобы позволить себе все необходимое, у него достаточно денег, хорошая пенсия — это плата за работу, которая состояла из перенесенной несправедливости, стало быть, это не какая-нибудь там милостыня, а гонорар. Самое неприятное свойство его окружения заключается в том, что оно не дает никакой возможности отвлечься, что оно слишком однообразно, словом, с индустрией развлечений дело обстоит хуже некуда.
— Ты ведь сам хотел это услышать? — с любопытством завершаю я.
Арон потирает пальцы, у него явно плохое кровообращение, и презрительным тоном сообщает, что я оказался куда сообразительней, чем он мог предполагать. Забыл же я только одно, правда, самое главное: как объяснить это явно неправильное поведение? Неужели я не могу себе представить, спрашивает он меня, что есть такой вид усталости, который делает невозможной любую форму деятельности?
— Ну почему же, вполне могу.
И у того, кого постигла эта усталость, так говорит он, нет больше сил даже заботиться о себе самом. Причем усталость эту нельзя смешивать со смирением, хотя он и не исключает, что для человека постороннего они имеют много общего. Но сейчас речь идет именно об усталости. Он в такой же мере не хотел ее, в какой и не сдался ей слишком рано. Совсем наоборот. Борьба против усталости — это была последняя и, возможно, самая тяжкая борьба в его жизни. И он проиграл ее. Разумеется, он прекрасно сознает, что гораздо почетнее умереть на всем скаку, чем кончать жизнь тем способом, который, грубо говоря, можно назвать внутренним увяданием. Как ветер, говорит Арон, затихающий так незаметно, что никто не может понять, когда именно он затих. Великим борцом он никогда не был, впрочем, это не меняет его убеждение, что подобная невыносимая усталость пригибала к земле и более воинственные натуры, нежели он сам.
— Впрочем, я понимаю, что тебе это мало о чем говорит, — завершает Арон.
* * *
Однажды, за несколько недель до того, как у Марка начались летние каникулы, Ирма вдруг спросила:
— А почему мы никогда никуда не ездим?
И Марк тут же подхватил:
— Да-да, поехали куда-нибудь!
Уже ради просьбы Марка Арон не должен был возражать, кстати, путешествия входят в систему воспитания, да он и сам был не против, поездка такого рода сулила отвлечение от унылого, лишенного событий прозябания, которое мало-помалу начинало его угнетать. Он даже пришел к выводу, что из всех троих перемена места была всего важней именно для него; оставался лишь один вопрос: куда ехать? Знакомых, которые жили за городом, у него не было, знакомых у знакомых — тоже. Он припомнил свои немногочисленные довоенные поездки. Вспоминал Карлсбад, Гельголанд, Бад-Шандау и еще безумно дорогой отпуск с Линдой Лондон в Давосе. Самое большое впечатление произвело на него море, море было ярчайшим отличием от повседневной жизни. И он спросил: