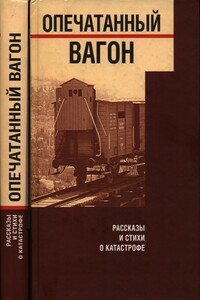И вот, имея за плечами такой опыт, Арон сидел лицом к лицу с Паулой, в гостиной, за столом с букетом цветов, они улыбались друг другу и не знали, о чем, собственно, говорить.
(Хочу к этому добавить, что Лидия была последней женщиной, которую Арон держал в своих объятиях. Жалкие возможности в гетто и позднее в лагере он не использовал в отличие от большинства своих товарищей по несчастью. Они часто говорили на эту тему, даже непонятно до чего часто, вспоминает Арон, для него же это обстоятельство неволи не представляло особых затруднений.)
Паула наконец сказала:
— Вы вообще не знаете, почему я здесь.
Ее слова удивили Арона, он готов был побиться об заклад, что знает, но Паула продолжала:
— Завтра утром у нас идет машина на Мюнхен. Она проедет почти рядом с детским домом, где живет Марк, для машины это совсем небольшой крюк. Или мое сообщение застало вас врасплох?
— Врасплох-то врасплох, но я очень рад.
— Тогда завтра в восемь в нашем бюро.
Надежда так скоро увидеть Марка взволновала Арона больше, чем все остальное. Он встал, начал расхаживать по комнате, курил, размышлял о своих тщетных попытках представить себе Марка и опять напрягал воображение. Паула ему не мешала, непонятно только, из соображений такта или из-за вновь охватившего ее смущения. Она просто сидела и наблюдала за ним. Через какое-то время она встала и вышла из комнаты. Внезапно Арон остановился, обеспокоенный, Паула уже не сидела на стуле, да и вообще навряд ли ей было так уж интересно наблюдать, как мужчина средних лет бегает взад и вперед по комнате. Он решил немедля проявить галантность, если, конечно, она еще здесь, или при следующей встрече, если уже ушла, но, к счастью, по его словам, обнаружил ее на кухне.
— Я ищу рюмки.
— Рюмки должны быть в комнате.
Вернувшись в комнату, она наконец развернула принесенный предмет, и это оказалась бутылка коньяка. Арон вспомнил про испытанное им в казино желание самолично раздобыть выпивку, причем уже не знал, сказал он это вслух или только подумал. Он поставил на стол рюмки и налил коньяк. И тут Паула произнесла вполне загадочную фразу:
— Если бы мы захотели забыть все, что было раньше, мы так никогда и не начали бы жить снова.
И опять, как говорит Арон, ему было о чем подумать; он не хотел воспринять ее слова как непривычный звук или как некую музыку, их надлежало сперва расшифровать, интересно, что подразумевала Паула? Одно из значений, так сказать, философский аспект ее фразы был вполне очевиден.
* * *
— Или тебе это надо объяснять?
— Нет, нет, продолжай, — ответил я и спросил себя, в чем причина, что он так часто и не там, где надо, подозревает меня в неспособности следовать за ходом его мыслей?
* * *
Но вот что до второго значения, то на нем Арон сломал себе зубы. Хотела ли она дать ему понять, что уже пора подвести черту под прошлой жизнью и начать новую, возможно даже с ней? Или она скорей адресовала эти слова не ему, Арону, а себе самой? Со мной вроде бы тоже случалось подобное; иногда произносишь вслух такое, что совсем не предназначено для чужих ушей, и произносишь лишь затем, чтобы самому стало понятно. Может, Паула хотела подбодрить Паулу? Хотела вызвать попутный ветер, как делают солдаты, когда штурмуют некое поле и при этом кричат «ура!». Если бы мы хотели забыть все, что было раньше… Пауле было двадцать шесть, значит, и ей наверняка пришлось кое-что испытать, такое, о чем лучше забыть, если оценивать это с точки зрения жить снова. Мы так никогда и не начали бы жить снова. Ничего более точного Арон знать не мог. А спрашивать не хотел. Он просто пил.
Вдруг она сжала его лицо ладонями и поцеловала. Изумление Арона скоро уступило место растерянной радости и хмельному возбуждению, в которое поверг его вкус женщины. Бутылка упала со стола, коньяк пропитал ковер, да так, что несколько дней спустя, когда Арон уже вернулся из Баварии, от ковра разило спиртным. Но Паула не отпускала его. И тогда она произнесла слово, которое должно было прозвучать в его ушах, как гром. «Арно…» — сказала она.
* * *
— Это в первый раз меня так назвали, да еще в такую минуту. Сперва я даже подумал, что она обращается не ко мне. Нет, нет, особой трагедии в этом не было, я скоро привык. А нынче меня все так называют, все, кроме тебя, но никогда потом это имя не казалось мне столь неподходящим, как в тот день.