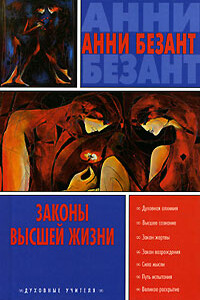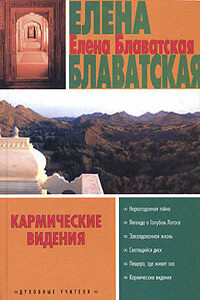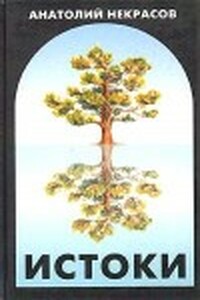Но социальность не такое уж большое открытие, как буквенная письменность например, которую невозможно изобрести в каждом племени. Для этого должен родиться гений наподобие Ньютона, Эйнштейна или Бора. Социальность – это скорее изобретение колеса, которое каждый ребенок в мире изобретает в возрасте от двух до пяти лет. Или изобретение копья при помешивании костра палочкой, которую огонь заостряет и делает более прочным острие. Или изобретение глиняного блюда как случайного обожженного коржа под потухшим костром. Это могут одновременно изобрести сколько угодно наблюдательных полулюдей. Поэтому единовременный скачек к социальности могут изобрести десятки, сотни будущих народов, не в один день, разумеется, а с разрывом лет так в тысячу. Поэтому я считаю, что народы и расы происходили именно так и независимо друг от друга. Потому и разнообразие, и внешнее, и поведенческое. Потому и разные ступени развития. Добавлю, что люди произошли не только от обезьян и медведей, которых я рассмотрел. Найдутся и другие прототипы, надо только искать, а не зацикливаться на очевидных совпадениях и «красивых» теориях в виде внеземных цивилизаций.
Как бы там ни было, но о всеподавляющей социальности муравьев и пчел тоже надо бы задуматься. Социальность есть, а не люди, ведь. Хотя, что мы знаем об их жизни? Для нас жизнь муравьев и пчел – это параллельный мир, но никак не пересекающийся с нашим миром, о котором пишут фантасты. Только Станислав Лем обратил внимание на чрезвычайно экономную жизнедеятельность насекомых. В нас воды 80 процентов, которая никак не участвует в жизни кроме создания растворов, в которых диссоциируют вещества. И только ради этого приходится нагревать эту воду и постоянно поддерживать ее температуру, тратя колоссальную энергию. Ведь вода – самое теплоемкое вещество на Земле. Насекомые же используют воду в крайне ограниченном количестве, поэтому тепловой коэффициент их полезного действия многократно выше, чем у теплокровных животных, таких, как мы с вами. Мы даже на молекулярном уровне очень расточительны к теплу, не говоря уже о нашем внешнем потреблении энергии, таком как электростанции.
Вполне может оказаться, что, например, муравьи и пчелы живут интеллектуальной жизнью, а мы все спираем на какой–то идиотский инстинкт. Я уже говорил где–то в своих работах, что у кошек и собак, жизнь которых, по словам ученых, очерчивается почти сплошь инстинктами, на самом деле интеллектуальна, а инстинктом ограничивается, как и у нас с вами, только самопроизвольное отдергивание руки от горячего. Просто, может оказаться так, что муравьи и пчелы имеют коммуникационную систему, социум, основанные на разуме и коллективной деятельности. Только мы об этом ничего не знаем и не стремимся узнать из–за своего снобизма, который мы сами себе присвоили, притом без всякого основания, в виде титула существ высшего разума. А муравьи сидят себе в муравейнике и втихаря посмеиваются, но они ничего не могут с нами поделать, такими большими, кровожадными и дурными.
Закончить хочу древнейшими сведениями, которые мне напоминают как пресловутые мешки, так и зимний анабиоз холоднокровных и зимнюю спячку высших животных. Сведения взяты мной из книги В.Н. Демина «Загадки Урала и Сибири. От библейских времен до Екатерины Великой» («Вече», М., 2001). Сам же Демин почерпнул их рукописи «О человецех незнаемых в Восточной стране»: «В той же стране за теми иная самоедь такова. Как и прочий человеци, но зиме умирают на два месяца. Умирают тако: как которого где застанет в те месяци, той тут и сядет. А у него из носа вода изойдет, как от потока, да вмерзнет к земли. И кто человек иные земли неведением поток той отразит у него, и он умрет. Той уже не оживет, а иные оживают, как солнце ся на лето вернет. Так на всякий год оживают и умирают. <…> В той же стране есть така самоедь: в пошлину аки человеци, без голов, рты у них межи плечами, а очи в грудех. А ядь их головы олений сырые. И коли яст, и он голову олению вскинет на плечи, и на другый день кости вымечет туда же. А не говорят». Чем не «мешок»? И «сказка ложь, да в ней – намек, добрым молодцам – урок».