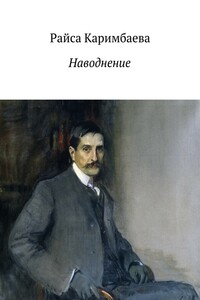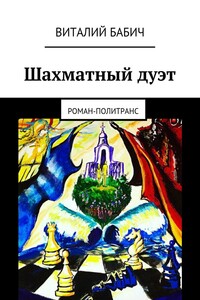— Странно, очень странно, — задумчиво проговорил я.
Вдруг меня осенила одна мысль.
— Если все это так, значит, она уже когда-то бывала у моря! — воскликнул я.
— Как же она могла туда попасть? — спросил бургомистр.
Я пожал плечами, я тоже этого не знал.
— Разве могла раньше батрачка из Богемии приехать к морю, — повторил бургомистр, и мне пришлось с ним согласиться. — В этих деревнях даже поездка на поезде до следующей станции была таким событием, которое не забывалось всю жизнь, так как же она могла попасть к морю, — еще раз повторил бургомистр, и чем больше он говорил в свойственной ему спокойной и рассудительной манере, тем больший интерес я к нему испытывал. Я сказал ему, что я писатель, признался в своей склонности разузнавать человеческие судьбы и попросил его рассказать немного о своей жизни, и бургомистр охотно согласился как-нибудь вечерком это сделать. Я поблагодарил его и сказал, что хотел бы сейчас спросить лишь о том, ехал ли он тогда один на новую родину или у него была семья, на что бургомистр ответил, что ехал один, он один вернулся из концлагеря, жена его там погибла, а двух сыновей своих он так и не смог отыскать, говорили, что они погибли в фольксштурме.
Море пенилось, вдали гудел пароход. Мне что-то сдавило горло, я не мог произнести ни слова. Я не раз уже давал самому себе отчет в своей прежней жизни, писал о ней и думал, что уже окончательно подвел черту под ее последней главой. Поездка к морю должна была подтвердить это, и вот теперь я понял, что не в моей воле подвести эту черту. Прошлое еще не прошло. До тех пор пока хоть один человек спрашивает, зачем было нужно переселение, прошлое еще не прошло, и у меня оставались обязанности, от которых я не имел права освободиться.
Я вспомнил, что боялся, как бы разговор с фрау Трауготт не помешал моему отдыху, и мне стало стыдно.
Бургомистр почувствовал мое смущение.
— Вы были тогда еще очень молоды, — сказал он и спросил, сколько мне лет.
Я назвал год своего рождения: 1922-й, и бургомистр заметил:
— Вам пришлось тогда, конечно, служить в армии.
— Мне самому этого очень хотелось, — признался я и рассказал о встрече с бароном и тосте за Богемию у моря.
— Но и вы тоже сумели найти ту большую дорогу, по которой жизнь движется вперед, — сказал бургомистр.
— После того, как побывал в плену, — ответил я.
— Вам было труднее найти эту дорогу, — сказал бургомистр. — Вы пили вино с господином бароном, а я жал рожь на его полях, копал картофель и свеклу, за таким занятием, поверьте, скорее узнаешь жизнь.
Я молча кивнул, подумав, что бургомистр, захоти он, мог бы после освобождения остаться в родной деревне, ему наверняка предлагали остаться, но он посчитал, что важнее поехать вместе с переселенцами за границу, поддерживать их словом и делом, чтобы они не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы и были уверены в завтрашнем дне, и я понял, что идущий рядом со мною человек, которого я, еще не зная, слишком поспешно счел за бюрократа, один из тех незаметных героев, без которых Германия погрузилась бы в небытие. Украдкой я разглядывал его: худощавый, подтянутый, среднего роста, с обветренным лицом, с глубокими морщинами на щеках и на лбу, лицо, дышавшее добротой, которая свойственна людям, устоявшим во многих битвах. «И вероятно, на лацкане пиджака под кожаной курткой, — подумал я, — у него приколот маленький овал с красным знаменем и двумя крепко сжатыми руками»[1]. Он почувствовал на себе мой взгляд и смутился.
— Я хотел бы поблагодарить вас, — сказал я.
Мы остановились у ратуши.
— За что благодарить? — спросил бургомистр.
Я не ответил, да он и не ждал от меня ответа.
Послышались шаги, из канцелярии выбежала секретарша и передала бургомистру, что ему звонили из района.
— Еще один вопрос, — взмолился я и спросил, сколько, собственно, лет фрау Трауготт, вместо бургомистра ответила секретарша:
— В октябре ей будет сорок.
— Сорок? — изумился я, вспомнив ее лицо, лицо пятидесятилетней женщины.
Бургомистр молча кивнул и пошел в свою канцелярию.
— Что же ее так подкосило? — растерянно спросил я секретаршу.