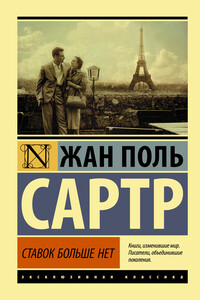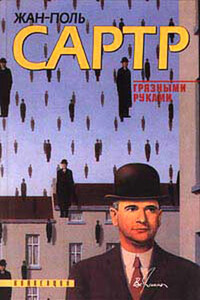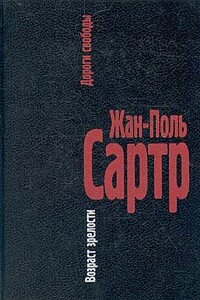Между тем действовать необходимо. Если, с одной стороны, Бодлер — это нож, око, предназначенное для сугубого созерцания, наблюдающее, как где-то внизу бегут и плещутся суетливые волны рефлектируемого сознания, то с другой — он сам же и рана, чреда этих бегущих волн. И если его рефлексивная позиция как таковая предполагает отвращение ко всякому действию, то ведь вместе с тем, как раз благодаря крошечным, мимолетным зарницам сознания, вспыхивающим там, внизу, он весь — действие, проект, надежда. Вот почему Бодлера не следует считать квиетистом; он, скорее, — бесконечная чреда мгновенных начинаний, сразу же парализуемых рефлексивным взглядом, он — целое море проектов, гибнущих, едва только они выныривают на поверхность, он — бесконечное ожидание, бесконечное желание стать другим, очутиться в ином месте. Я имею в виду не только его бесчисленные уловки, при помощи которых он с нервозной поспешностью пытался оттянуть принятие решения о своей недееспособности, выудить несколько су у матери или аванс у Анселя, но также и его литературные замыслы — театральные пьесы, критические статьи, книгу «Мое обнаженное сердце», которые он все вынашивал в течение 20 лет, но так и не осуществил. Временами его лень превращалась в какое-то оцепенение, однако чаще проявлялась в виде лихорадочного, но бесплодного возбуждения, знающего о собственной тщете, отравляемого беспощадной ясностью сознания; из его переписки возникает образ человека-муравья, упрямо пытающегося взобраться по вертикальной стене, всякий раз срывающегося, но вновь и вновь начинающего карабкаться вверх. Причина в том, что никто лучше самого Бодлера не знал о бесплодности всех его усилий. Если ему и приходится совершать какие-то поступки, то, по его собственным словам, они больше похожи на вспышки или толчки, когда на мгновение ему удается обмануть свое ясное сознание. «Есть натуры чисто созерцательные и совершенно неспособные к действию, которые, однако, под влиянием какого-то таинственного и неведомого побуждения иногда совершают поступки с такой стремительностью, на которую они сами не сочли бы себя способными»; такие души, «неспособные на самые простые и на самые необходимые действия, обретают в иные мгновения избыток смелости для совершения самых нелепых, нередко даже самых опасных поступков». («Стихотворения в прозе»: Негодный стекольщик.)
Он сам называет такие поступки «беспричинными». Действительно, они откровенно бесполезны, а нередко имеют и разрушительный характер. При этом Бодлеру нужно не упустить время, успеть совершить эти поступки, пока дремлет рефлексивное око, парализующее все. Этим объясняются повелительные и вместе с тем торопливые интонации в его письмах:
Я должен, действовать быстро, как можно быстрее!
Вот, к примеру, он негодует на Анселя, его гнев ужасен, в течение одного дня он пишет матери пять писем, а шестое — на следующее утро. В первом письме речь идет не более и не менее как о том, чтобы отхлестать Анселя по щекам:
Ансель — негодяй, которому я НАДАЮ ПОЩЕЧИН в присутствии его жены и ДЕТЕЙ, Я НАДАЮ ЕМУ ПОЩЕЧИН в четыре часа дня (сейчас половина третьего)…
Он употребляет заглавные буквы так, словно хочет отчеканить свое решение на мраморе, — настолько боится, что решение это ускользнет от него сквозь пальцы. Его намерения столь недолговечны, он так не верит в завтрашний день, что сам себе назначает предельный срок — 4 часа: ему как раз хватит времени, чтобы добраться до Нейи. Однако в 4 часа — новая записка: «Сегодня я не поеду в Нейи; я согласен подождать с местью». Само намерение пока что остается неизменным, но оно уже как-бы нейтрализовано, переведено в условное наклонение:
Если я не получу от Анселя формального удовлетворения, я побью его, побью его сына…
Впрочем, эти строки он помещает теперь в постскриптум — несомненно, из страха показаться слишком скорым на уступку, к вечеру тон еще более смягчается:
Я уже переговорил с двумя знакомыми относительно того, как мне следует поступить. Ударить старика, да еще в присутствии его семьи — дело малопочтенное; между тем я нуждаюсь в удовлетворении; как быть, если я этого удовлетворения не получу?