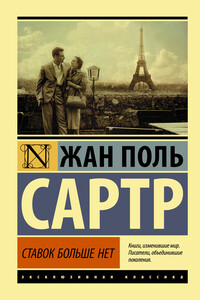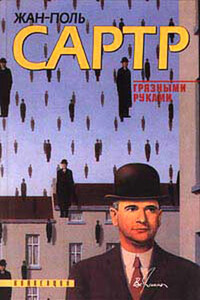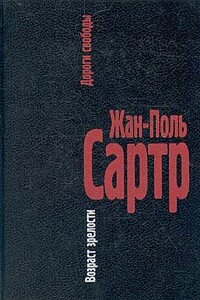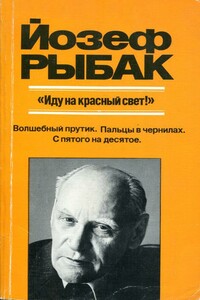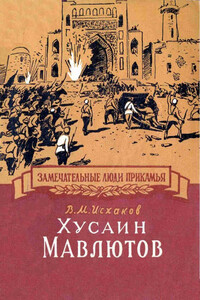Ведь бодлеровский дендизм с его безжалостным требованием стерильности — это миф, культивируемая изо дня в день греза, позволяющая совершать ряд символических действий, хотя Бодлеру и известно, что это всего-навсего греза. По его собственным словам, чтобы быть денди, надо вырасти в роскоши, обладать значительным состоянием и располагать досугом. Однако ни полученное Бодлером воспитание, ни заполненный трудами досуг не отвечают этим требованиям. Бодлер, несомненно, деклассированная личность и страдает от этого; он пал, окунувшись в богему, он — «непутевый» сын г-жи Посланницы. Вместе с тем эта реальная деклассированность отнюдь не совпадает с тем символическим разрывом, который осуществляет денди. Бодлер не возвысился над буржуазией, а очутился ниже ее, оказался у нее на содержании подобно тому, как писатель XVIII в. находился на содержании у знати. Дендизм Бодлера — это компенсаторное сновидение: униженное положение не столько уязвляет его гордость, что он пытается придать своей деклассированности иной смысл — смысл умышленного размежевания. Впрочем, в глубине души он не обманывается на свой счет: замечая, что Гис чересчур уж страстно мечтает стать денди, он прекрасно знает, что может сказать то же самое и о себе самом. Он поэт. Исполинские крылья, мешающие ему ходить, — это крылья поэта, а тяготеющая над ним неудача — это тоже неудача поэта. Его дендизм — это стерильное желание «поэтической запредельности».
Вместе с тем, будучи способом защиты от других, его кокетство становится инструментом общения с самим собой. По мнению Бодлера, его существованию не хватает полноты. Лицо в зеркале кажется ему настолько знакомым, что он его не видит, а течение мыслей представляется настолько привычным, что он ничего не может о нем сказать. Он повсюду окружен самим собой, а вот завладеть собой не может. Суть его усилий в том, чтобы восполнить самого себя. Однако тот образ себя, который он ищет в глазах окружающих, непрестанно от него ускользает; в таком случае нельзя ли увидеть себя таким, каким видят себя другие? Для этого достаточно установить дистанцию, пусть и микроскопическую, между своим взглядом и своим образом, между рефлексирующим и рефлектируемым сознаниями. Человек-Нарцисс, желающий возжелать самого себя, накрашивается и переодевается и в таком виде усаживается перед зеркалом; в результате ему удается возбудить в себе нечто вроде слабого желания, вызванного обманчивой видимостью собственной другости, Бодлер переодевается, чтобы преобразиться, а затем подсмотреть за самим собой. В «Фанфарло» он признается, что смотрится во все зеркала; это значит, что он хочет доискаться до себя такого, каков он есть. Вместе с тем в заботе о внешнем виде стремление обнаружить себя извне, как вещь, соединяется с ненавистью ко всему данному. Ведь в зеркале он ищет самого себя, но таким, каким он себя создал. Бытие, которое он видит, не есть чистая и чуждая ему пассивность, поскольку он нарядил и нарумянил ее собственными руками: это образ его деятельности. Таким образом, Бодлер пытается еще раз снять противоречие между своим выбором в пользу существования и выбором в пользу бытия: человек, отражающийся в зеркалах, — это его собственное существование в процессе бытия и бытие в процессе существования. Вглядываясь в свое отражение, он подвергает свои чувства и мысли одной и той же операции — он их наряжает и накрашивает так, чтобы они казались ему чужими, а вместе с тем оставались его собственными, принадлежали ему еще более безраздельно, поскольку он сам же их и сотворил. Он не выносит в себе и намека на спонтанность: его ясный ум видит ее насквозь, и Бодлер принимается разыгрывать испытываемое им чувство. Так возникает уверенность, что он сам себе господин; он — творец и в то же время — сотворенный объект. У Бодлера это называется актерским темпераментом:
В детстве я хотел быть то папой — но только папой военным, — то актером.
Наслаждение, которое я испытывал от этих двух галлюцинаций.
В «Фанфарло» он признается:
Будучи от рождения весьма порядочным человеком, а от нечего делать — немного прохвостом, Крамер, актер по природе, оставшись в одиночестве, принимался разыгрывать для самого себя упоительные трагедии, а точнее сказать, трагикомедии. Если он чувствовал щекотку подкрадывающейся веселости, то, стремясь закрепить это состояние, принимался хохотать во все горло. Стоило ему, растрогавшись при каком-нибудь воспоминании, позволить слезинке набежать в уголок глаза, и он бежал к зеркалу — смотреть, как он плачет. Стоило девице в приступе внезапной, ребяческой ревности оцарапать его иголкой или ножичком, как он уже поздравлял себя с ударом кинжала, а если ему случалось задолжать каких-нибудь несчастных 20 000 франков, то он радостно восклицал: