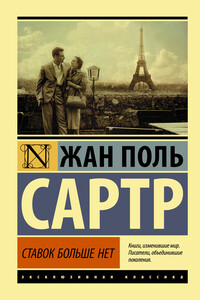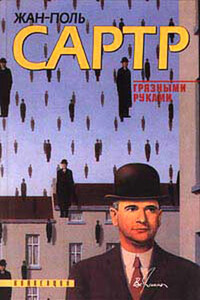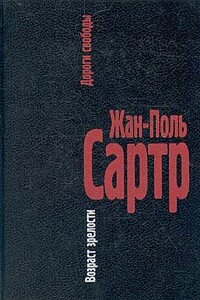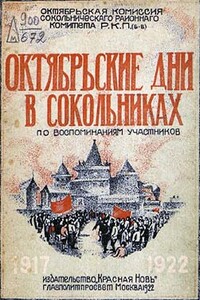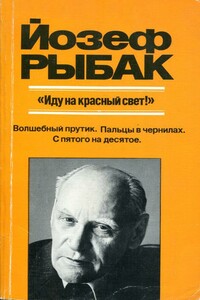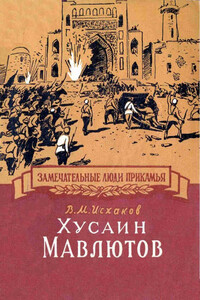В какой мере Бодлеру удалось реализовать эту душевную потребность, а в какой она осталась просто грезой? Трудно с определенностью ответить на этот вопрос. Не следует, конечно, ставить под сомнение искренность усилий, которые он прилагал, чтобы одеваться с безукоризненной элегантностью, выглядеть безупречно «в любое время дня и ночи». Заметим, кстати, что очищающие, остужающие и омолаживающие омовения, вероятно, имели для него глубокий символический смысл; хорошо умытый человек светится, словно минерал в солнечных лучах; вода, стекающая по телу, смывает память о прошлых грехах, убивает жизнь паразитов, присосавшихся к коже. Все же я не могу отделаться от мысли, что этот порыв к дендизму подвергается постоянной и тонкой фальсификации. В принципе денди присущ спортивный и воинственный дух, у него должна быть мужественная повадка и осанка, свидетельствующие об аристократической строгости: «совершенство туалета (в глазах денди) заключается в идеальной простоте» («Романтическое искусство»).
Но в таком случае что означают эти выкрашенные волосы, женские ногти, розовые перчатки, длинные кудри — все, что подлинный денди, будь то Бреммель или Орсэ, посчитал бы проявлением дурного вкуса? В Бодлере совершается незаметный переход от мужественного дендизма к своего рода женскому кокетству, к женской любви наряжаться. Вот всего лишь беглая зарисовка, в которой, однако, больше жизни и истины, чем в ином портрете: «Медленными шагами, несколько развинченной, слегка женской походкой Бодлер шел по земляной насыпи возле Намюрских ворот, старательно обходя грязные места и, если шел дождь, припрыгивая в своих лакированных штиблетах, в которых с удовольствием наблюдал свое отражение. Свежевыбритый, волнистыми волосами, откинутыми за уши, в безупречно белой рубашке с мягким воротом, видневшимся из-под воротника его длинного плаща, он походил и на священника, и на актера». (Camille Lemonnier. См.: Crepet E. Op. cit. P. 166).
Здесь Бодлер больше похож, пожалуй, на педераста нежели на денди. А все дело в том, что дендизм, помимо прочего, есть способ защиты от других. С близкими людьми, которых он хорошо знает, Бодлер имеет возможность вести свою извращенную игру в Добро и Зло. Ему известно, в какой мере он может довериться их мнению, пококетничать, когда чувствуешь их пренебрежение, имея возможность в любой момент взвиться, словно птица, оставить у них в руках свой образ, а самому вновь стать воплощенной свободой, неподвластной ничьему мнению. Дело в том, что он изучил их принципы и обычаи. Он может ненавидеть их или бояться, но в любом случае с ними он чувствует себя в своей тарелке. Однако как быть с другими, с безликой толпой других? Кто они? С ними у него нет никакой близости. Они — могущественные судьи, но ему неведомы правила, которыми они руководствуются в своих суждениях. «Тирания человеческого лица» оказалась бы не столь чудовищной, не будь на каждом из этих лиц двух недремлющих глаз. Эти глаза повсюду, и в них таятся чужие сознания. Все эти сознания видят его, молча завладевают им и пожирают; он пребывает в недрах чужих душ, где его классифицировали, упаковали и наклеили сверху этикетку, а какую — он не знает. Вот, например, этот прохожий на улице, скользнувший по Бодлеру равнодушным взглядом, — ему, наверное, ничего не известно о знаменитой бодлеровской «непохожести», и он принимает его за обычного буржуа, подобного всем прочим. Поскольку же эта непохожесть, чтобы существовать объективно, нуждается в признании со стороны другого, то равнодушный прохожий разрушает ее уже одним своим взглядом. А другой человек, напротив, принимает Бодлера за чудовище, и как можно защититься от этого мнения, доказать, что ты ему неподвластен, если не знаешь, чем оно мотивировано? Вот это и есть настоящая проституция — принадлежать всем. Народная поговорка, по которой собаке позволительно лаять и на владыку, имеет ужасающие последствия как раз потому, что для собаки владык не существует. «В театре, на балу, — пишет Бодлер, — каждый услаждает себя всеми». А это означает, что Бодлером может насладиться любой шалопай. Под чужими взглядами он беззащитен и наг. Вот почему, в силу одного из тех противоречий, с которыми мы уже свыклись, Бодлер, будучи человеком толпы, боится ее больше всего на свете. В самом деле, удовольствие, которое доставляет ему зрелище большого стечения народа, — это услада для