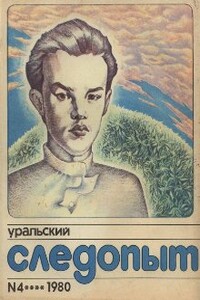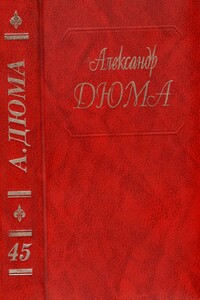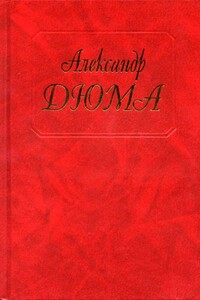Ему показалось, что поблизости кто-то есть. Оглянулся — никого. Посмотрел на часового — тот все так же неподвижно стоял у будки. Извозчик, нахохлившись, дремал на козлах. Рысин хотел пойти, взглянуть, нет ли кого за кустами акации — шорох вроде оттуда послышался, но сдержал себя, не пошел.
Калугин не появлялся.
Начиная волноваться, Рысин поднес к глазам руку с часами и успокоился — прошло всего три минуты.

Он ждал, что вот-вот придет к нему то чувство спокойствия и расслабленности, какое испытывает человек после трудной, хорошо сделанной работы. Рысин подумал об этом еще в пролетке, по дороге к тюрьме. Но желанное чувство не приходило. И дело было не только в том, что Костя Трофимов оставался пока за тюремными воротами. Дело было в другом. Калугин прав: преступление останется безнаказанным… Он, Рысин, пожалел Костю и Леру, не довел дело до конца, как предписывали ему долг и совесть. Можно, конечно, успокаивать себя тем, что если бы он даже передал материалы расследования полковнику Николаеву, все равно ничего не изменилось бы. В беспристрастие нынешних властей не очень-то верилось. Ну, положим, разжалуют Калугина или переведут в армию. А то и вовсе отделается легкой епитимьей… Но как бы то ни было, он-то сам, Рысин, должен был все-таки попытаться открыть дело. Он мог попробовать и Костю при этом выручить, но уже на свой страх и риск, это его личное право. Надо было открыть дело! А он впутал свои личные привязанности в такие вещи, где о личном и речи идти не может.
Потому и не приходило спокойствие.
Он представил на своем месте Путилина Ивана Дмитриевича. И понял, что перед ним такой вопрос просто не мог встать. Путилин всегда был над делом, а он влез в него по уши. Но что еще ему оставалось делать? Путилин всегда был только охотником. Он же стал охотником, егерем и дичью одновременно.
Рысин вынул чугунного ягненка — подарок Леры, поставил его на ладонь. Ягненок уперся в нее всеми четырьмя копытцами на ножках-растопырках. Его мордочка выражала недоумение и любопытство. Рысин смотрел на ягненка и думал о том, что так и не увидел блюдо шахиншаха Пероза. Да и не увидит, наверное. Он представлял его большим, ослепительно светлым и в то же время похожим на немецкую серебряную сухарницу, которую принесла в приданое жена — единственную ценную вещь в их доме…
Дверца в воротах отворилась со скрипом. Мелькнул кусок беленой стены и заслонился темным.
— Прапорщик! — позвал Калугин, выбираясь к будке — Где вы?
Рысин шагнул вперед.
Калугин наклонился к часовому, потом силуэт его странно изломился — локти выпятились в стороны, плечи приподнялись, и узкая стальная полоса, укорачиваясь, блеснула между ними.
«Все!» — успел подумать Рысин, налетая грудью на острое и твердое.
Полыхнуло огнем — ярко, до самого неба.
Подаренный на счастье чугунный ягненок спрыгнул в траву, подбежал к лицу Рысина и ткнулся холодным носом ему в подбородок.
В Кунгуре поезд простоял несколько часов.
На вокзале творилось бог знает что — говорили, будто билеты на восток идут уже по двенадцать тысяч. Пьяные солдаты врывались в классные вагоны, сбрасывали пассажиров с площадок Двое студентов из вагона, в котором ехал Желоховцев, встали с револьверами в тамбуре и закрыли двери.
Франциска Алексеевна даже к окну не подходила. Сидела, сжавшись, в уголке и все спрашивала:
— Что же это делается-то, Гришенька?
Часа через два страсти поутихли, и Желоховцев вышел на перрон.
В стороне, у заколоченных ларьков, стояла, дожидаясь погрузки, артиллерийская батарея. На хоботе крайнего орудия во всю длину висело дамское белье из разбитых лавок. Вокруг толпились бабы, шла торговля.
Высокий офицер в форме карательных войск подошел к Желоховцеву:
— Я поручик Тышкевич… Что ваши тарелки, профессор? Так и не нашлись?
— Нашлись, — сказал Желоховцев.
— Да ну? — удивился Тышкевич. — А Рысин ведь сбежал, подлец. С красными остался…
Круто повернувшись, Желоховцев пошел к своему вагону.
Что он мог рассказать этому подпоручику?
Что он вообще мог кому-то рассказав про ту ночь, когда они сидели с Лерой в темной комнате и перед ними таинственно поблескивало на столе блюдо шахиншаха Пероза?